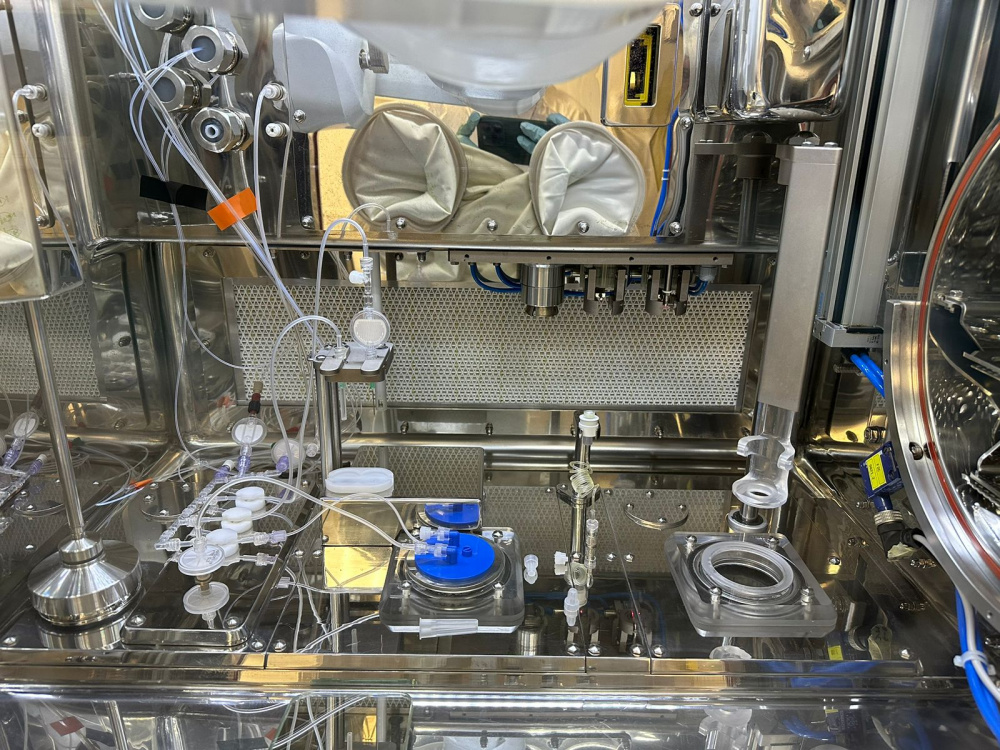«Р‑Фарм» – один из лидеров рынка госзаказа препаратов для терапии онкологических заболеваний и один из крупнейших партнеров зарубежных производителей по локализации профильной лекарственной номенклатуры. На промплощадках группы упаковываются, в частности, трастузумаб и бевацизумаб от Roche, пембролизумаб от MSD. Топ‑менеджер группы Лариса Смирнова рассказала Vademecum, какие тенденции обнаружил поставщик за два года реализации федерального проекта, с какими организационными и регуляторными проблемами столкнулся и как предлагает их разрешать.
«ЦЕНЫ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ»
– Федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями стартовал два года назад. Какие-то изменения уже заметны?
– Безусловно, ключевой тренд – увеличение доступности высокотехнологичной, инновационной, дорогостоящей онкологической помощи для жителей всей страны. До старта госпрограммы такой доступ был только у пациентов из крупных городов с большими региональными бюджетами.
Улучшение ситуации ощутимо для всех. У врачей появилась возможность расширить свой клинический опыт по применению инновационной терапии – пролечить не одного-двух пациентов и не одним или двумя препаратами, а получить массовый опыт по применению всего перечня. Это способствует и профессиональному росту медиков, и прибавляет уверенности пациентам в том, что онкология сегодня – не приговор.
– В начале 2019 года представители онкоцентров отмечали, что фармкомпании не сумели переориентироваться на новые объемы закупок, из-за чего по ряду позиций возникла дефектура.
– Не то чтобы не сумели переориентироваться. Это проблема многих производителей, которая существовала раньше и существует сейчас: когда отсутствует понимание потенциального спроса, очень сложно спланировать производство. Известно, что производство новых препаратов производителями форкастируется за полгода. Для Big Pharma Россия – не самый большой рынок, и не стоит ждать, что на наши возросшие потребности зарубежные производители начнут откликаться немедленно, через месяц.
В конце 2018 года, когда национальная программа только декларировалась, не было понимания, как она будет реализована, когда придут и будут переданы в регионы деньги, не было и доверия со стороны администрации, медицинского сообщества. Поэтому планы на 2019 год транслировались крайне осторожно.
В первом квартале 2019 года мы видели очень робкое увеличение закупок во всех регионах. Те заказчики, которые отыграли аукционы на 2019 год в конце 2018-го, оказались в более благоприятной ситуации, потому что обеспечивались лекарствами приоритетно. Труднее всего пришлось тем регионам, которые разыграли торги последними: на них не хватило препаратов, а поставщики и производители не выходили на торги, понимая, что реально обеспечить контракты нечем. Нормализовалась эта ситуация через полгода.
Я хорошо помню: понимание того, что мы закрываем дефектуру по всем нашим позициям и сможем не только поставить препараты по текущим госконтрактам, но и гарантировать дальнейшие бесперебойные поставки, появилось только к августу 2019 года.
– Когда мы анализировали первые полгода действия госпрограммы, выяснилось, что многие регионы, которые прежде существенно недофинансировались, после старта федерального проекта распорядились деньгами не в пользу дорогостоящей терапии, как это было задумано, а стали закупать недорогое – то, чего им прежде не хватало.
– Да, это было заметно. Большая часть регионов испытывали дефицит базовых химиотерапевтических препаратов, поэтому, когда им дали деньги, они стали закупать в первую очередь именно их – до точки насыщения их потребности. И только убедившись в том, что финансирование идет, все стабильно оплачивается по ОМС, стали очень аккуратно закупать дорогие иммунотерапевтические, таргетные препараты.
Но точка насыщения была фактически достигнута. Сейчас по химиотерапевтическим препаратам рост небольшой, в 2020 году не превысит 20–30% – это совсем немного. Для сравнения: иммуноонкология выросла в 2019 году на 300% к предыдущему году, а в этом – вырастет еще почти на 100%. Признаки насыщения потребности есть и по препаратам, к химиотерапии не относящимся. Например, казалось, что потребность в трастузумабе не удовлетворится никогда, но при более-менее доступной цене и нормальном обеспечении рынка она вполне может быть закрыта.
– Сейчас, наоборот, есть спрос на дорогостоящую иммунотерапию, а финансирования не хватает, поступившие объемы препаратов уже выбраны. Какие у вас прогнозы по динамике этого сегмента рынка?
– Возможности роста, естественно, зависят от финансирования. В этом году темпы роста в два-три раза ниже по всем группам. По иммуноонкологии, как я говорила, темпы снизятся с 300% до 100%, а по таргетным препаратам – с максимальных 90% упадут вдвое.
Потребность ни в иммуноонкологических, ни в таргетных препаратах пока не удовлетворена. С текущим объемом финансирования насыщения и не произойдет, но это беда не только России. Полностью удовлетворить спрос на эти препараты не способна ни одна система здравоохранения. Поэтому государство и пытается регулировать рынок разными способами, снижая цены на ЖНВЛП, вводя определенную систему тарификации в КСГ.
Как бы это ни было неприятно и как бы каждый конкретный производитель ни возмущался тем, что его в чем-то пытаются ограничить, это абсолютно понятно с учетом государственных интересов. Я думаю, что регуляция рынка будет ужесточаться и еще более детализироваться.
– Что-то, что сыграет в пользу снижения цены?
– То, что цены будут оставаться под контролем, абсолютно понятно. Я говорю о том, что сейчас обсуждается система стандартизации – введение стандартизированных модулей и стандартов, которые предлагают определенную частоту использования каждого препарата. Хотя эта система носит в основном рекомендательный характер, безусловно, она станет дополнительным инструментом контроля за использованием бюджетных средств.
Пока мы видим очень разнородную картину по проценту использования дорогостоящих препаратов в разных регионах страны: где-то 30%, а где-то больше 50%. И это при том, что финансирование идет по подушевому нормативу и эти цифры не должны отличаться от региона к региону.
– Такая модель действует и в других странах?
– Есть так называемый порог готовности платить, являющийся для государства мерилом, позволяющим вкладывать бюджетные средства, регулировать этот рынок. Я не говорю о том, что это идеальная система взаимоотношений бюджетодержателей, медицинского сообщества и фармпроизводителей, думаю, у этой системы есть масса минусов, но кто-то должен взять на себя ответственность за то, получает пациент препарат или нет. Это могут быть две стороны: либо плательщик – государство, которое признает, что денег на обеспечение всех пациентов дорогостоящими лекарствами не хватает, либо эта ответственность возлагается на врачей, как в ряде случаев происходит сейчас. Врач оказывается лицом к лицу и с пациентом, и с администрацией, и со своими оппонентами из медицинского сообщества. И ставить каждого врача на этот фронт обороны перед всеми, мне кажется, тоже не совсем верно.
«РАЗРЫВ МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЬЮ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЖЕ НЕ ДВУКРАТНЫЙ»
– Насколько сейчас не удовлетворена потребность в дорогостоящих препаратах?
– Дать оценку очень сложно. Например, у одного онкопрепарата, которым занимается «Р-Фарм», больше двадцати показаний. Разрыв между потребностью и возможностью существует, и он даже не двукратный, а существенно больший.
Серьезная проблема с обеспеченностью в онкогематологии, которая только с этого года будет более-менее широко погружена в систему ОМС. По препаратам, не входящим в «14 ВЗН», закупки были до последнего времени очень ограничены, потребность в них превышает обеспеченность более чем в 10 раз.
– А что последует за увеличением финансирования онкогематологии?
– По моим предположениям, сократится финансирование терапии солидных опухолей – как раз из-за того, что онкогематология вырастет. Считайте сами: на федеральный проект в 2021 году добавят 20 млрд рублей – и это не только химиотерапия, но и хирургия, лучевая терапия и так далее. При этом с 2019 года строились новые центры лучевой терапии, туда ставилось новое оборудование, и эти центры должны заработать как раз с 2021 года.
Объемы онкопомощи по лучевой терапии вырастут, и это произойдет на фоне расширения КСГ по онкогематологии. Пирог же не безграничен. Если бы с 2019 года программа начала функционировать сразу с онкогематологией, все было бы ровно.
– Почему, на ваш взгляд, распорядители федерального проекта взялись погружать в его бюджет онкогематологию? Есть же ВЗН.
– Потребность в этих препаратах гораздо шире, чем та, которую удовлетворяет программа ВЗН. И надо понимать, что ВЗН все-таки предполагает длительную курацию пациентов, по большей части это таблетированная терапия, которая используется в качестве поддерживающей для сохранения достигнутых результатов лечения. Но в онкогематологии есть большой перечень острых состояний, которые требуют стационарного лечения, и за счет ВЗН эту потребность покрыть невозможно, потому что обострения нельзя предсказать. Лечение таких обострений должно быть в системе ОМС.
– В течение 2020 года неоднократно поднималась тема дефицита онкопрепаратов. И вроде бы власти предприняли ряд мер, призванных снизить этот дефицит. Как вы оцениваете масштаб этой проблемы и предложенные варианты ее решения?
– Думаю, что мера по повышению цен на ЖНВЛП, конечно, отразится на доступности препаратов. Проблема в основном коснулась базовой химиотерапии. Действительно, на некоторые препараты были установлены низкие цены, с другой стороны, работало правило, исключающее возможность участия в торгах дешевых иностранных дженериков. Эти два фактора оставили на рынке только отечественные препараты, упавшие в цене, и поставщикам оказалось невыгодно ими заниматься. А производственные возможности, понятно, ограничены у каждого производителя.
– Список из 26 дефицитных онкопрепаратов – это только малая часть проблемы?
– Нет. В этом году я не слышала о дефектурных историях по большему перечню. Я думаю, что и дефектура по 26 препаратам относится скорее к 2019 году.
– В 2020 году Московская область существенно снизила тариф на дорогостоящий ниволумаб. Это локальная история или проявление тенденции?
– В этом году в ряде регионов был высокий тариф на ниволумаб. Разница между стоимостью препарата (в ценах ЖНВЛП) и ценой возмещения по тарифу достигала 300 тысяч рублей и больше. С одной стороны, это выгодно медучреждению, потому что там остаются деньги. С другой стороны, при такой разнице между стоимостью препарата и ценой его возмещения со стороны ОМС происходит перекос: учреждение расходует выделенные средства, а количество случаев не закрывает.
Поэтому Московская область пошла по пути снижения тарифа – у регионов есть такая возможность. Маржинальность использования ниволумаба стала меньше. Представители ФФОМС, выступая на различных мероприятиях, обращали внимание на то, что в системе тарификации есть определенные перекосы, которые делают одни схемы стабильно убыточными для медучреждений, а другие – очень рациональными.
Система тарификации, КСГ проходит становление, в текущем виде она функционирует только второй год. Конечно, она требует детализации и усовершенствования – это вопрос времени. Я уверена, что в 2021 году система саму себя немного «подкрутит» и станет гораздо лучше.
«СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ НУЖНО ДАТЬ ВРЕМЯ НА ОТЛАДКУ»
– В этом году была раскрыта масштабная схема по перепродаже льготных онкопрепаратов, задержаны организаторы аферы. А в целом бороться с «серым» рынком удается?
– Внедрение системы маркировки, я надеюсь, приведет к нивелированию проблемы «серых» поставщиков. Нужно дать ей время на отладку и установку – это большой и сложный механизм, в который включены тысячи поставщиков, клиентов и участников. Конечно, система давала какие-то сбои.
«Серые» поставки – проблема не только фармкомпаний, несущих потери, но и государства, которое дважды, а то и трижды платит за один и тот же товар. Это катастрофически сказывается на качестве продукта, который получает пациент, потому что «серые» поставщики не соблюдают условия хранения и транспортировки лекарств и зачастую перевозят их из одного региона в другой на заднем сиденье машины.
– А участники «серого» рынка не стали осторожнее после введения маркировки?
– Пока сложно сказать: с момента внедрения системы прошло полгода, и в обороте еще находится товар, который может быть принят немаркированным. Но, я надеюсь, к весне 2021 года его будет становиться все меньше, а цепочки поставок, в свою очередь, будут становиться все более прозрачными.
Мы мониторим все госзакупки препаратов, выпускаемых нашей компанией. И реагируем, если видим, что в каком-то аукционе участвует игрок с ценой существенно ниже рыночной, или обнаруживаем неизвестную компанию с сомнительной репутацией. Конечно, есть и реестр всех клиентов, которым мы отгружаем товар.
– Но бывает, что и медучреждения, принимая «серый» товар и даже замечая какие-то несоответствия, все равно стараются избежать проблем, связанных с приостановкой исполнения контракта.
– Участия в скандале, давайте скажем так. Да, это правда, мы сами с этим сталкивались.
Если, например, мы проигрывали какому-то «серому» поставщику и дальше по этому поводу начиналось разбирательство, получалось, что товар этого поставщика поступает на карантин, деньги заказчика заморожены – он не может пустить их на новый аукцион. И до разрешения ситуации может пройти четыре-пять месяцев.
Итогом такого неприятного инцидента для медучреждения является расторжение контракта, а ведь больница закупала эти препараты в расчете на лечение определенных пациентов, при этом никакого обменного фонда нет.
Проблема – в скорости фиксации того факта, что товар не соответствует требованиям законодательства. Нужно, чтобы за этим следовало немедленное возвращение процедуры закупки на начальный этап и переобъявление торгов.
– Как складывается ситуация с диагностикой пациентов при назначении таргетной терапии?
– Назначение современных препаратов предполагает проведение соответствующей диагностики – иммуногистохимического, молекулярно-генетического исследования. Чем более точно верифицирован диагноз, тем больше вероятность назначения эффективного лечения и более осознанной траты бюджетных денег.
Но это требует подготовки специалистов, лабораторий, а значит, и времени. Поэтому развитие диагностической службы происходит не быстро, несмотря на то что диагностика уже в 2020 году была погружена в систему ОМС, были выделены специальные тарифы. Исторически в стране есть несколько научных центров, которые занимались диагностикой, но сейчас, когда оплачивать ее должна система ОМС, во многих регионах возможностей для этого нет.
Второй момент: в соответствии с порядками оказания медицинской помощи диагноз должен быть поставлен в течение семи дней. Значит, за этот срок где-то нужно провести диагностику, отправить биоматериал на анализ – зачастую в другой город, где есть лаборатория – и получить результат. Более того, нужно, чтобы в этом городе одновременно делали и иммуногистохимическое, и молекулярно-генетическое исследование, а такие центры в стране можно по пальцам пересчитать. Соответственно, либо страдает скорость постановки диагноза, либо врачи отказываются от этой диагностики и лечат базовой химией.
Конечно, эта сфера требует большого внимания. И методической поддержки и стандартизации всех этих исследований. А пока мы часто встречаемся в регионах с самодеятельностью в организации диагностики.
– Еще одна связанная с таргетными препаратами проблема – оплата амбулаторного лечения. Есть пути ее решения?
– Это требует изменения ряда нормативных актов. Сейчас пациент амбулаторного звена может обеспечиваться онкопрепаратами только за счет региональной и федеральной льготы, а сам амбулаторный прием тарифицируется как услуга – прием такого-то врача. А ОМС в госпитальном звене (дневной и круглосуточный стационар) тарифицирует законченный случай, включающий и лекарственную терапию. Поэтому, чтобы лекарства можно было выписывать за счет средств ОМС в амбулаторном звене, это звено должно быть погружено в программу госгарантий с моделью законченного случая. А какой случай в амбулаторной практике можно считать законченным в онкологии, где люди лечатся годами? То же касается и сахарного диабета, и бронхиальной астмы.
Были предложения часть денег из госпрограммы по онкологии передать в региональную льготу и предоставить возможность отпускать таблетки. Но в таком случае будет очень сложно проконтролировать целевое использование средств, что неизбежно приведет к сокращению регионом своих вложений в онкологию. Сокращение регионального финансирования уже произошло.
С другой стороны, расширение возможности применения препаратов в амбулаторном звене неизбежно приведет к росту потребности и необходимости дофинансирования. Поэтому и быстрого решения нет.
– Сокращение региональной льготы – повсеместная история?
– Да. В 2019 году рост объема закупок по региональной льготе был очень умеренным и в основном происходил за счет Москвы. А в 2020 году произошло очевидное снижение. Мы понимаем, что существенные бюджеты в этом году были потрачены на борьбу с эпидемией.
Надо учитывать и то, что в первом-втором кварталах закупки были более интенсивными, чем в первом полугодии 2019 года. В четвертом квартале медучреждения традиционно закупают препараты уже на следующий год, сейчас закупки проводятся в более-менее плановом режиме.
– Насколько пандемия повлияла на оказание онкопомощи в целом?
– В третьем квартале 2020 года мы не увидели того объема закупок, который прогнозировали. Это произошло не только из-за его сокращения регионами, но и из-за того, что очень сильно пострадал объем оказываемой помощи. Болели врачи, пациенты, их родственники, были введены ограничительные меры. Онкоучреждения, конечно, тотально не перепрофилировались на борьбу с эпидемией, но периодически закрывались из-за заболевания врачей, которые работали в условиях, схожих с военными действиями. Ведь у онкологов нет возможности перенести встречу с больными: прерывать терапию нельзя.
Еще одно последствие пандемии – уменьшилось число первичных пациентов, с ранними формами рака. Если раньше пациент, встревоженный незначительными симптомами, приходил к врачу, то сейчас люди стараются визит отложить. Поэтому многие онкологи считают, что с окончанием эпидемии мы, к сожалению, столкнемся с большим количеством распространенных форм рака. Просто в силу того, что пациенты затягивают свое обращение к онкологу или могут не иметь возможности, в силу эпидемических обстоятельств, быстро получить помощь.