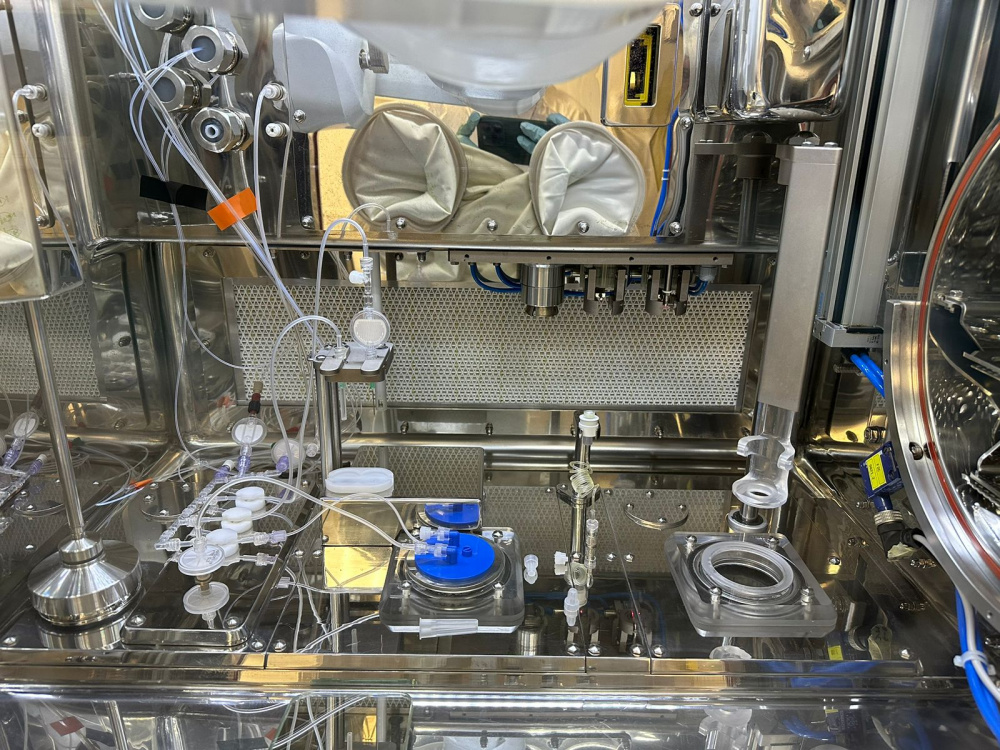Во время XXI Российского онкологического конгресса, проходившего 14–16 ноября, Vademecum поговорил с членом правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Михаилом Бяховым об изменениях в работе московской онкологической службы.
– На конгрессе была утверждена Национальная онкологическая программа. Какова ее дальнейшая судьба?
– Программу передают в Минздрав, где ее будут анализировать – возможно, у ведомства будут какие-то замечания или корректировки. Диалог будет продолжаться, онкологи предлагают свое видение, у Минздрава оно может быть свое. Важно найти золотую середину. По моему мнению, нужно четко разграничить два момента: это ответственность граждан за собственное здоровье – кроме них, никто не несет ответственности – ни государство, ни работодатель, а второе – это ответственность государства за качество оказания медицинской помощи. В этом отношении у нас есть путаница, мы должны четко отделять, кто за что отвечает. И если человек всю жизнь курил и пил, то за потерю здоровья государство не несет никакой ответственности, это его выбор. На сегодняшний день государство делает достаточно много: если посмотреть срез молодежи, мужчины стали существенно меньше курить, в отличие от женщин. У нас открываются повсеместно спортивные залы, спортивные кружки, идет пропаганда ЗОЖ. У государства есть все: оборудование, медперсонал, диспансеризация, под которую выделяют огромные деньги, профосмотры. А дальше опять мы возвращаемся к нашему населению: диспансеризация начинается с 21 года, вопрос в том, что на нее никто не ходит. Тогда причем здесь государство? Причем в Москве диспансеризацию можно пройти за 90 минут, но если люди не будут проявлять активность в этом отношении, то никакая диспансеризация работать никогда не будет. Сейчас в Москве очень много делается для ранней диагностики злокачественных опухолей, основная проблема – рак молочной железы, но из числа женщин, которым положено делать маммографию, приходит 4%. Мы говорим о низкой квалификации врачей, но она не может быть хорошей, потому что для этого специалист-рентгенолог должен смотреть минимум 5 тысяч снимков в год. И только после этого иметь право подписи диагноза. Образование во всем мире дает базу, а дальше – опыт. В Москве мы фокусируемся на скрининге и ранней диагностике, сейчас запускаем проекты по ранней диагностике рака молочной железы и рака легкого.
– Что это за проекты?
– Создаем трехуровневую систему, у нас на сегодняшний день достаточное количество аппаратов – маммографов больше, чем нужно. Самая богатая страна в мире может себе позволить четыре маммографа на 1 млн человек.
– А в Москве их сколько?
– Свыше сотни. У нас есть цифровые маммографы, и сейчас их заключают в одну информационную систему, то есть для каждого аппарата не нужно по рентгенологу. Лаборант должен правильно сделать снимок, который уходит группе врачей – на каждой округ достаточно пяти специалистов, они их смотрят перекрестным способом, если выявляют патологию, отправляют на третий – экспертный – уровень. Если там врачи подтверждают патологию, вызывают пациента к себе и заканчивают диагностику в одном кабинете. Сейчас мы их обучаем по трем специальностям: рентгенология, ультразвук и Core-биопсия. Если женщина пошла, один доктор должен поставить ей диагноз. При этом в ежедневном режиме эти врачи экспертного уровня просматривают и норму. Могу сказать, что до этого мы выявляли 900 раков за определенное время, то теперь, при новой системе, за аналогичный период выявили 2 500 случаев рака. Да, второй уровень пока еще немного слабоват, у них нет достаточного опыта, но нельзя говорить, что они безграмотны. Чтобы увидеть рак, начиная от 1 мм, нужно смотреть очень много снимков, а для этого нужно не один год сидеть и «набивать» глаза. Поэтому сделали трехуровневую систему, когда эксперты будут видеть, что в конкретном округе врачи второго уровня смотрят хорошо и не пропускают рак, им делегируют право ставить диагноз. Есть же люди обучаемые и необучаемые, и если мы понимаем, что, например, Петров необучаем, тогда меняем Петрова. Еще идет контроль за качеством съемки – нужно правильно сделать снимок и уметь работать с компьютером и обеспечением, рентген-лаборантов мы второй год обучаем.
– В каком учреждении располагаются врачи экспертного уровня?
– Они находятся в Клинике женского здоровья, которая является филиалом нашего Московского клинического научного центра [Михаил Бяхов также занимает должность заместителя директора центра. – Vademecum], и есть второй центр, который возглавляет профессор Морозов [Сергей Морозов, директор НПЦ медицинской радиологии Москвы, читайте интервью с ним. – Vademecum]. И сейчас еще инициирована ранняя диагностика рака легкого при помощи низкодозной КТ – для граждан, которые курят больше пачки сигарет в день на протяжении 20 и более лет. Курильщикам будут делать КТ или МРТ с контрастом, в зависимости от показаний, за счет ОМС. При подозрении на рак легкого человека будут направлять к онкологу в стационар для верификации процесса, поскольку установить это в поликлинике нельзя.
– КТ – это довольно дорогостоящая процедура.
– Любой скрининг – это дорогая вещь, но развитие общества идет по одним и тем же законам. Нельзя из феодализма перепрыгнуть в коммунизм, так и здесь – нельзя прийти к западной системе здравоохранения, минуя какой-то этап. Весь мир прошел через скрининг, государства вкладывали в это деньги, и теперь 80% рака молочной железы выявляется на первой стадии. И сейчас им это уже становится не нужно, но мы-то в другой ситуации. И мы должны пройти через затраты и недовольства, система отлаживается. Наша самая большая трудность в том, что весь мир шел от платной медицины к частично бесплатной, и поэтому там счастливы любой бесплатной конфетке, а мы же при стопроцентно бесплатной медицине вынуждены ее дифференцировать. И это очень болезненный этап, но мы должны его пройти.
– Категорию для КТ-скрининга выявляют при диспансеризации?
– Их вылавливают у терапевтов. Сейчас терапевтам мы прописали все алгоритмы ранней диагностики при подозрении на онкологию. Если человек пришел, и у него заподозрили рак, ему выдают рекомендации и направления на все исследования для подтверждения диагноза.
– Такие алгоритмы для терапевтов разработаны по всем онкозаболеваниям?
– Да, это приказ по Москве – ответственность за раннюю диагностику несет участковый терапевт. Это первый этап. Самое главное: нас интересуют не те, кто жалуется на здоровье, а люди, которые как раз не ходят в поликлинику. Это самое сложное – заставить людей, будучи абсолютно здоровыми, ходить на диспансеризацию. Но если они не будут приходить, оборудование будет простаивать, его срок годности – истекать, а покупать новое – очень сложно, поскольку старое не оправдало себя с экономической точки зрения. Для примера: неработающая койка «съедает» по затратам 1,5 работающих. Сейчас все стремятся к сокращению пустующих коек. Поэтому создается система высокопотоковых клиник и маршрутизация, чтобы было не 100 центров, а два, но в них сконцентрировано все. Тогда мы можем говорить о совершенно другом профессиональном уровне врачей.
– В Москве было восемь онкологических стационаров, это количество сохраняется?
– Сохраняется, у нас два чисто онкологических учреждения и шесть многопрофильных клиник. Времена меняются, продолжительность жизни увеличивается, на сегодняшний день из числа наших больных 40% старше 75 лет. Эти пациенты уже с достаточно большим багажом сопутствующих патологий, и монопрофильные клиники уже не могут справиться. Например, к нам в МКНЦ поступает больной раком поджелудочной железы старше 70 лет, понятно, что у него уже есть сахарный диабет и атеросклероз. Он госпитализируется в эндокринологическое отделение, по профилю, там ему подбирают терапию, связанную с сахарным диабетом, кардиологическое отделение готовит к операции, потом его отдают хирургу, а после операции возвращают обратно специалистам отделения. Все происходит в одной клинике и решается общим консилиумом, а в чисто онкологическом учреждении такой возможности нет, там идет большой отказ в выполнении хирургических операций, потому что это высокие риски.
– В таком случае не планируется ли сокращать эти чисто онкологические учреждения, концентрируя потоки больных в многопрофильных клиниках?
– На все нужно время. Не должно быть никаких революций. Все, что было сделано до нас, сделано хорошо, мы должны все это усовершенствовать. Сейчас мы проводим мониторинг всех клиник в Москве, чтобы минимизировать попадание онкологических больных в непрофильные учреждения. Мы определили минимальную планку количества операций для отделений – меньше какого количества операций делать просто нельзя. Например, мы знаем, у какого числа больных опухоли гепатобилиарной зоны – это рак печени, поджелудочной железы, то есть сколько нужно операций в год. И когда посчитали, поняли, что есть только два учреждения, которые справятся с этими показателями, – мы [МКНЦ. – Vademecum] и Боткинская больница, которая имеет самый большой опыт в хирургии этих локализаций. Остальные клиники делают 10–15 операций, а нужно минимум 100, мы порекомендовали им этим не заниматься. А дальше мы мониторируем, если вдруг кто-то захотел соперировать, возникает вопрос: почему вы это сделали? Не надо так делать, иначе мы вас накажем.
– Если хирурги перестают выполнять эти операции, то чем им тогда заниматься?
– Это их проблема. Мы не должны решать, чем заниматься людям, они должны решать это сами для себя. Если у хирурга есть большой поток, и он может его организовать, мы готовы помогать, но мы не готовы воспринимать людей, которые делают пять операций в год. Если ему нечем заниматься, пусть идет в поликлинику. Многие говорят, что вот, плохо – сократили, уволили, но просто так ничего не делается. Если отделение не выполняет своей нагрузки, зачем оно нужно? Это вопрос заведующего отделением, пусть он несет ответственность перед своими сотрудниками, почему он не смог обеспечить их работой. Мы посчитали, при современных условиях может оказаться, что через некоторое время количество клиник будет сокращаться. На всех больных не хватает.
– То есть сокращение учреждений – это показатель эффективности, мы просто нагружаем отделения больше?
– Да. Мы создаем высокопотоковые центры, где должно проходить огромное количество операций. Это хорошо видно на примере нашего центра. Он был создан из двух учреждений: Института гастроэнтерологии и больницы №60, там было 100 хирургических коек, проводилось 200–300 операций в год. Сейчас у МКНЦ 30 коек, а операций мы делаем 2 500, операционные работают в две-три смены каждый день. Чем хороши многопрофильные центры? У хирургической койки очень большой оборот. В кардиологии подготовили, онкохирург соперировал, неделя прошла, если нужно – отправили пациента обратно в терапевтическое отделение или в отделение патологии поджелудочной железы, в хирургии не лежат долго.
– Что касается амбулаторных онкоотделений – какова организация их работы?
– В каждом округе есть отделение амбулаторной химиотерапии. Эти отделения расположены в поликлиниках в Юго-Западном, Западном, Северо-Восточном округах, Зеленограде и ТиНАО, а в остальных -- диспансеры со своими дневными стационарами. После того как пациента прооперировали в онкологическом стационаре, он идет по месту жительства продолжать химиотерапию. А в стационар госпитализируется – это и в ОМС прописано – только пациент, который нуждается в 24-часовом наблюдении.
– Погружение химиотерапии в ОМС по всей стране воспринималось скептически, из-за размеров тарифов. Сейчас обеспечение химиотерапии – это в основном средства ОМС или региональные закупки?
– В Москве химиотерапия вошла в ОМС с 1 июля 2017 года, мы только начали работать. В России до недавнего времени оставалось только два региона, где химиотерапия не погружена в ОМС, – это Москва и Санкт-Петербург, сейчас остался только Петербург. В Москве пока еще есть небольшое разделение: амбулаторно-поликлиническая служба обеспечивается за счет ДЛО, это закупки городского Департамента здравоохранения, а стационары уже сами покупают за счет ОМС.
– Сколько примерно Москва тратит на закупки препаратов?
– Очень много. Если сравнивать с общим бюджетом страны на закупки химиотерапии, то на Москву приходится примерно 30%. Почему мы долго держались и не вводили химиотерапию в ОМС? Потому что, если прописываем химиотерапию в ОМС, то любой гражданин РФ может лечиться здесь бесплатно.
– То есть нагрузка на бюджет города может резко увеличиться?
– Да, и это проблема, учитывая, что регистрация занимает три дня. На сегодняшний день Москва – единственный регион РФ, где обеспечение лекарственными препаратами на очень хорошем уровне, ни в одном регионе нет такого количества современных препаратов, не входящих в список ЖНВЛП. Москва закупает для своих жителей эти препараты. И за счет обеспечения лекарственными препаратами у нас стал резко расти контингент, больные не умирают. Берем меланому, больные которой разделились на две группы: те, у кого есть BRAF-мутация, и те, у кого ее нет. Начиная с этого года все, кому показано, получают BRAF-терапию, и только за год мы получили увеличение контингента на 17%. То есть эти люди раньше бы умерли в течение года, но они живут. Но к этим 17% в 2018 году добавится стандартное количество больных, которые ежегодно заболевают. Это такая геометрическая прогрессия, с которой тоже нужно что-то делать и решать эти вопросы.
– А потом нужно будет погружать в ОМС химиотерапию поликлиник и дневных стационаров?
– Сейчас мы работаем над этим. Вся химиотерапия, которая на сегодняшний день погружена в ОМС, не убыточна, там можно зарабатывать. Вопрос только в потоке больных: если в отделении на 30 койках в месяц лечатся 100 человек, может быть убыточно, а если 200 человек, то это достаточно хорошая прибыль. Сейчас мы решаем вопрос с таргетной терапией, здесь не все так просто. Мы готовим новые технологические карты и отдельно по таргетной терапии, которые будут представлены в ТФОМС. Дальше, в зависимости от бюджета, будет принято решение. Я думаю, у нас получится, поскольку мы научились все вместе работать, и мы научились правильно считать, нас слышат. Если еще в 2014 году бюджет на химиотерапию составлял всего 4,5 млрд рублей, то сейчас – раза в три больше, и это средства бюджета Москвы. Это стало возможно за счет четкой доказательной базы, математического расчета эффективности, того, какой КПД получается. В каком варианте будут включены таргетные препараты, сложно сказать, но они будут.
– То есть тогда часть нагрузки с московского бюджета будет снята?
– Конечно, их можно будет направить на другие цели. Поэтому мы все считаем, что это финансирование должно быть настолько согласованным, чтобы еще не было и двойного финансирования. За этим мы тоже следим. Допустим, Департамент здравоохранения закупил лекарства, их израсходовали на пациентов, а учреждение подало счет-фактуру полностью в ОМС, и система ОМС полностью его оплатила. Это колоссальная работа, нравится это кому-то или нет, она должна быть. Мы должны уметь правильно считать. Этой проблемы не существовало, когда нечем было лечить. Тогда доброе слово, блеск в глазах, сочувствие – помогали. Сейчас ситуация другая, у нас есть целый арсенал препаратов. И в нашу онкологическую службу нужно внедрять понимание, что мы должны разделить медпомощь на две части: все должны ее получать, но оказание специализированной медицинской помощи – это совершенно другое дело. Здесь мы уже должны четко отбирать больных для лечения. Не назначать лечение, а отбирать больных: по данным клинических испытаний, иммунотерапия при раке легкого эффективна только в 20%, значит необходимо отбирать для лечения тех пациентов, у кого она покажет эффект. И в этом вся сложность, эта проблема во всем мире. Поэтому даже самые богатые страны на сегодня отказались финансировать иммунотерапию для своих граждан – дорого.
– Отказались, потому что невозможно четко определить, кому она нужна?
– Четких критериев нет, так что дальше это либо клинические исследования, либо полис ДМС, покрывающий такое лечение. У нас другое законодательство, поэтому в Москве мы сделали очень жесткий контроль за назначением этих препаратов, нравится это кому-то или нет, и получили существенную прибавку к продолжительности жизни населения. Если мы знаем, что мы можем 30% больных меланомой с метастазами вылечить, то кого из пациентов мы будем лечить? Кто может прожить еще лет 40 или кто в силу биологии не проживет и 10 лет? Возникает конфликт. Но оценить эффективность лечения меланомы я могу только через три года. То есть мы лечим 100 человек иммунотерапией и 100 человек химиотерапией, результаты лечения первые три года одинаковые, вопрос в переходе этого трехлетнего рубежа. Но его нужно еще прожить. А если человеку 80 лет? И пациент 40 лет. Если мы возьмем 80-летнего пациента на лечение иммунотерапией, мы не сможем лечить 40-летнего, не сможем лечить ребенка. Поэтому везде в мире основный принцип – отбор пациентов, которым мы сможем максимально оказать помощь и вылечить. В остальных случаях задача – максимально облегчить человеку жизнь, попытаться продлить ее, если мы понимаем, что не можем его вылечить. Но если 30-летнего человека с метастазами в печень, головной мозг, легкие мы можем излечить – то давайте это делать, потому что он за следующие 30 лет своей жизни вернет все эти деньги через ВВП, ведь он будет работать.