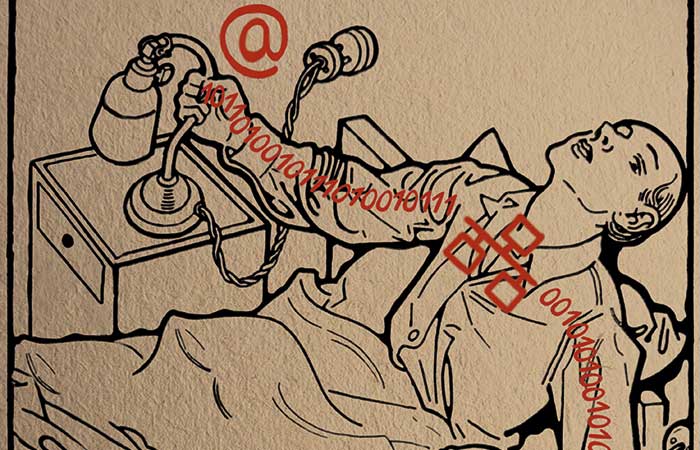Вслед за развитыми странами в России лет десять назад живо взялись оцифровывать индустрию здравоохранения. Кризис сбил нездоровый ажиотаж вокруг информатизации, но интерес операторов рынка медицинских и фармацевтических услуг к цифровым сервисам не ослабил. Vademecum попытался разобраться, чьи идеи так и не выбрались за пределы коворкингов, а кто продолжает верить в магию digital health и мечтает создать по-настоящему полезные для здравоохранения IT-продукты.
Лидерство в сегменте digital health в США будет принадлежать технологиям и устройствам для удаленного мониторинга здоровья, полагает профессор Bryan University Стивен Герст, под руководством которого были спрогнозированы бурный, на 33% в год, рост сегмента мобильных решений для здравоохранения и перспектива выручки в $59 млрд к 2020 году. Прогноз выглядит реалистично на фоне других показателей априори бюджетоемкой американской медицины – 20% пациентов страдают хроническими заболеваниями, на борьбу с которыми приходится 86% расходов системы Medicare. В 2012 году в The Centers for Medicare and Medicaid подсчитали, что около половины взрослых американцев имеют один или несколько хронических недугов. В стремлении оптимизировать расходы на помощь таким пациентам с прошлого года в Medicare ввели новый тариф – оплату медухода non-face-to-face, подразумевающий в том числе удаленный мониторинг состояния пациента.
Организаторы здравоохранения подсчитали, что дистанционный контроль с использованием электронных медкарт позволит в десятки раз снизить расходы: если срочная госпитализация больного в стационар обходится в $5– 10 тысяч в день, то амбулаторное наблюдение или домашний мониторинг – от $50 до $100 в месяц. Количество телемедицинских визитов к врачам в США к 2020 году, как ожидается, достигнет 158 млн, а растущие возможности телемедицины, по оценкам Goldman Sachs, помогут национальной системе здравоохранения ежегодно экономить до $104 млрд.
Курс на «оцифровку» взяла и британская служба здравоохранения: NHS, последние несколько лет нещадно критикуемая за низкую эффективность, заявила о выделении на развитие digital health порядка $6 млрд. В частности, на реорганизацию системы дистанционного мониторинга и лечения NHS направит более $1 млрд, на интеграцию с сервисами телемедицины и мобильными приложениями – еще $575 млн. Ожидается, что IT-решения позволят снизить расходы NHS на $31,6 млрд. К 2020 году служба намерена перейти на безбумажный документооборот и предложить удаленное обслуживание на дому четверти диагностированных хронических больных. NHS рассчитывает, что уже в следующем году 10% пациентской аудитории будет получать услуги врача, используя телемедицину и мобильные приложения.
Бит Каины
Россия, как может, старается не выпасть из глобального «цифрового» тренда – опрошенные Vademecum отраслевые эксперты отмечают непрестанное развитие телемедицинских проектов и сервисов удаленного мониторинга. Однако по темпам реализации и масштабности IT-проектов мы пока заметно отстаем. В первую очередь, подчеркивают аналитики и операторы, из-за отсутствия базовых нормативных документов, обеспечивающих возможность удаленного доступа врача к пациенту. «Дистанционные консультации уже проводятся, но их нужно легитимизировать, – настаивает медицинский директор компании ID4MD Наталия Мельникова. – Речь идет не только о коммуникации между врачом и пациентом, сборе анамнеза, но и об удаленной интерпретации результатов анализов, назначении методов диагностики и лечения, через знак равенства здесь – хранение и обмен данными, сервисы второго мнения».
Фрагментарные попытки наладить телемедицинские консультации можно даже назвать успешными, но реализуются они только в формате «врач – врач», что условно рассматривается как дистанционный консилиум медработников. Подключению к процессу больного препятствует базовое требование ФЗ-323, предусматривающее оказание медпомощи в «непосредственном физическом присутствии пациента». Помимо расширения понятийного аппарата, для полноценной информатизации отрасли необходим регламент безопасности использования телемедицинских технологий – система идентификации врача, электронной подписи.
«Создание и применение таких инструментов предполагают разработку целого ряда нормативных актов, прописывающих каждый этап, установку ограничений или противопоказаний к взаимодействию «врач – пациент» в дистанционном виде, а это большая работа, – признает Мельникова. – Понятно, что такие ограничения определенно есть в голове у каждого квалифицированного врача в каждой медицинской специальности. Я точно могу сказать, когда, например, больному нужно прийти на прием, а когда – выпить вторую таблетку и повернуться на правый бок. Но официального-то документа не существует, а значит, и удаленный доступ не разрешен. Формированием перечня состояний, являющихся противопоказанием к такого рода взаимодействиям, на мой взгляд, могут и должны заниматься кафедры медвузов». По данным VM, подобную совместную нормотворческую работу уже обсуждали представители Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
К законодательному порядку отрасль так или иначе призывают ФОМС и его «агенты» – страховые медицинские организации, которые сегодня охотно используют любое нарушение клиниками действующих нормативов – просто ради экономии. Потому и бытовавший некогда принцип «разрешено все, что не запрещено законом», сейчас не работает. «Запрета на электронные рецепты, носимые устройства, электронные медицинские карты нет, и предыдущее руководство профильного департамента Минздрава долгое время придерживалось либеральной позиции: электронная карта не запрещена, хотите – используйте, – рассказывает заместитель директора по развитию компании «Комплексные медицинские информационные системы» Александр Гусев. – Но сведущие прекрасно понимали, что в здравоохранении такой подход не работает. Есть приказ Минздрава №1030 еще 80-х годов и есть форма врачебной карты. А для использования электронных карт и рецептов нужен новый приказ».
Институт развития интернета (ИРИ) недавно разработал «дорожную карту» внедрения дистанционной медицинской помощи и ряда других IT-решений в индустрии здравоохранения с прицелом на реализацию актуальных профильных мероприятий в течение 2016-2017 годов (подробнее – в интервью «Есть чиновники Минздрава, которые при слове «телемедицина» впадают в истерику»). Минздрав, кажется, прислушался к мнению интеграторов, во всяком случае официальное заявление о принятии «дорожной карты» к исполнению прозвучало: 29 февраля ведомство сообщило о планах создать «правовые основы использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья» и опубликовало уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта.
В том же документе подчиненные Вероники Скворцовой пообещали к 2017 году поместить в правовое поле Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ), определить ее оператора и регламенты взаимодействия с иными информационными системами. Пример ЕГИСЗ, зримые результаты внедрения которой гораздо скромнее ассигнованных на ее создание сумм, пожалуй, наиболее характерен для описания перспектив IT в госсекторе. Несмотря на выделенные только из федерального бюджета 34,1 млрд рублей, ЕГИСЗ в систему пока не превратилась и заработает, по оценкам экспертов, еще не скоро. Причина провала – концептуальная ошибка, полагает Александр Гусев: «Томограф изобрели, поскольку исследованиями и многолетней практикой было четко доказано, что диагностика на ранней стадии сокращает затратную часть. И никого уговаривать не пришлось – появились спрос, финансирование, технология стала внедряться. С IT-решением вышло c точностью до наоборот – сначала выделялось финансирование, потом под него придумывался проект. И это ничего не дало, потому что цели и эффективность проекта никем не осмыслялись».
Летопись долгостроя подтверждает вывод эксперта. Деньги из федерального бюджета на создание и внедрение ЕГИСЗ поступали еще в 2011-2012 годах, неосвоенные средства в виде субсидий регионам перетекли на 2013 год. Затем региональным администрациям предложили самим изыскивать деньги на завершение работ и самим же формулировать техзадания для интеграторов. С тех пор одни развивали сервисы записи к врачу, другие создавали нозологические регистры, третьи по бедности вовсе ничего не делали. И только в конце 2015 года Минздрав вроде бы вновь вспомнил о своей ответственности за долгострой, опубликовав «дорожные карты» по развитию ЕГИСЗ на 2015–2018 годы (подробнее – в материале «Не за страх, а за софт», VM #1 (112) от 11 января 2016 года). «На уровне федерального законодательства не существует такого понятия, как ЕГИСЗ, и Минздрав заинтересован в том, чтобы легализовать информатизацию, – размышляет Гусев. – Если это понятие будет узаконено и подкреплено планами по развитию, у проекта появится шанс». В профильном департаменте ведомства, подтверждают эксперты, все тематические «дорожные карты» мягко гармонизировали, и если в 2013-2014 годах интеграторы региональных фрагментов занимались полной самодеятельностью, то в 2015 году действительно начал проявляться тренд на синхронизацию.
Знакомые с историей строительства ЕГИСЗ специалисты не злорадствуют о судьбе проекта и даже выказывают сочувствие госзаказчику. «Информационная система здравоохранения – это океанский лайнер, который нужно пришвартовать в каждую поликлинику», – не удерживается от метафоры Наталья Мельникова. Ее коллега, генеральный директор ID4MD Аскольд Романов предлагает измерять поворотливость и адаптивность секторов двух медицин к IT-новациям в деньгах: «Бюджет ОМС – 1,6 трлн рублей в год, а вся коммерческая медицина – это примерно 580 млрд рублей.
Конечно, разный масштаб ведет к разной скорости внедрения. Пускай медленно, но государство все это принимает. На внедрение информсистемы для Medicare американцы потратили $2 млрд. Ничего не функционировало два года после запуска специального ресурса, который потом пришлось заново отстраивать с нуля». Оценивать успехи внедрения медицинских информационных систем (МИС) посвященные в проблематику специалисты тоже предлагают корректно. «Возьмем московскую ЕМИАС. Если мы говорим про электронную запись на прием, то этот сервис работает – для пациента он удобен, врачи тоже почти привыкли, а технические сбои в процессе отладки неизбежны, – готова к компромиссу Наталья Мельникова. – А вот в том, что касается информационной ценности, ЕМИАС – вещь в себе, пациенту от нее в принципе нет никакого толка, кроме записи, но и врач из системы тоже ничего выгрузить не может. Говорить об удобстве использования данных не приходится – это не интегрированные, разрозненные между собой участки». Серьезным идеологическим провалом информатизации отрасли многие аналитики называют невозможность интеграции государственных МИС с локальными или системными IT-решениями, применяемыми в частных медцентрах. «Если исходить из интересов пациента, здесь не должно быть закрытой информации и монополии, – настаивает Мельникова. – Какую-то помощь пациент может получить в госмедучреждении, за другой – обратиться в коммерческую клинику, и нужно, чтобы у врачей была возможность обмениваться историей состояний пациента».
Выжимки из проводов
В коммерческом сегменте индустрии дела с информатизацией обстоят заметно лучше, чем в госсекторе, а внедренческая активность операторов рынка явно выше, чему Vademecum неоднократно находил подтверждения (подробнее – в материалах «Больной перед смертью по теле», «Мы встраиваемся в лечебный процесс и влияем на его подпроцессы», VM #39-40 от 16 ноября 2015 года, VM #41 от 30 ноября 2015 года). «Есть несколько направлений, на которые мы видим спрос у медицинского бизнеса, – замечает Александр Константинов, генеральный директор компании Ondoc, разрабатывающей электронные медкарты и соответствующие мобильные приложения. – В частности, дистанционный мониторинг больных. Наблюдение пациентов, которым требуется регулярный контроль показателей, а очное посещение врача нужно редко – это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ограниченными возможностями или будущие мамы. Зато почти каждый месяц появляются новые, более совершенные устройства для контроля за состоянием здоровья. Результаты, которые дают такие девайсы, уже близки по качеству диагностике в кабинете врача».
Но и здесь говорить о выдающихся успехах пока не приходится – интеграторы действуют локализованно, а ориентируются в первую очередь на запросы физических лиц. Сектор B2B явно хромает и явно по той же причине, что затягивает внедрение IT-решений в госмедучреждениях – отсутствие активного спроса, а значит, и понятной перспективы возврата инвестиций. А с точки зрения законодательных препон, полагают эксперты, нефтедобыча для инвестора – значительно менее рисковый бизнес, чем медицина и сопряженные сервисы.
«Занятные у нас нормативы – купить оборудование клиники могут свободно, а ради приобретения софта придется сильно вывернуться, чтобы понять, из какой статьи расходов списать средства», – описывает типичную внедренческую проблему генеральный директор компании UNIM Алексей Ремез. Среди возможных драйверов развития сегмента эксперты называют запрос от пациентов или профессионального сообщества, понимающего преимущества конкретного IT-решения, а также желание фармкомпаний спонсировать подобные разработки на перспективу. В нынешней ситуации даже те digital-проекты, которые можно назвать зрелыми и способными оптимизировать многие медицинские процессы, так или иначе сталкиваются с инертностью государственной системы здравоохранения, а значит – с невозможностью масштабирования. «Конечная цель любого стартапа – продажа бизнеса, – рассуждает Александр Гусев из КМИС. – Но чтобы хорошо продать бизнес, нужны и клиентская база, и тысячи врачей, и сотни тысяч пациентов, нужен выход на определенную модель возврата инвестиций, что в сегодняшних условиях маловероятно. Поэтому инвестиций пока немного, а проекты единичны».
Как полагают эксперты, заложенная в основу индустрии система, при которой заказчик и исполнитель – Минздрав и ФФОМС – практически один и тот же субъект, лишает операторов рынка мотивации. «У частной страховой компании, пусть и с государственной долей, есть задача минимизировать расходы, работать эффективнее, – размышляет Алексей Ремез. – Тут и возникает понятный драйвер роста, приобретает смысл инновация: вы можете делать все в том же объеме, с тем же качеством, но экономить». В отсутствие осмысленного крупного заказа потребителями решений и сервисов в сегменте digital health в большинстве своем будут конечные пользователи, прогнозируют эксперты. «Обороты набирает телемедицина – по результатам нашего опроса, 80% врачей с ней знакомы, – говорит Александр Константинов из Ondoc. – Как только появится законодательная база, интеграция телемедицинских сервисов с персональными носимыми устройствами тут же станет чрезвычайно востребована. Мы ставим на кардиографы, тонометры, глюкометры – те устройства, которые контролируют жизненно важные показатели». По результатам того же опроса Ondoc, коммерческие клиники активно дигитализируются – 55% респондентов уже оперируют собственными МИС, а 71% планируют в ближайшие пять лет апгрейдить действующую или запустить новую информсистему. О неснижающейся активности операторов digital health – в следующих материалах «Дела номера».