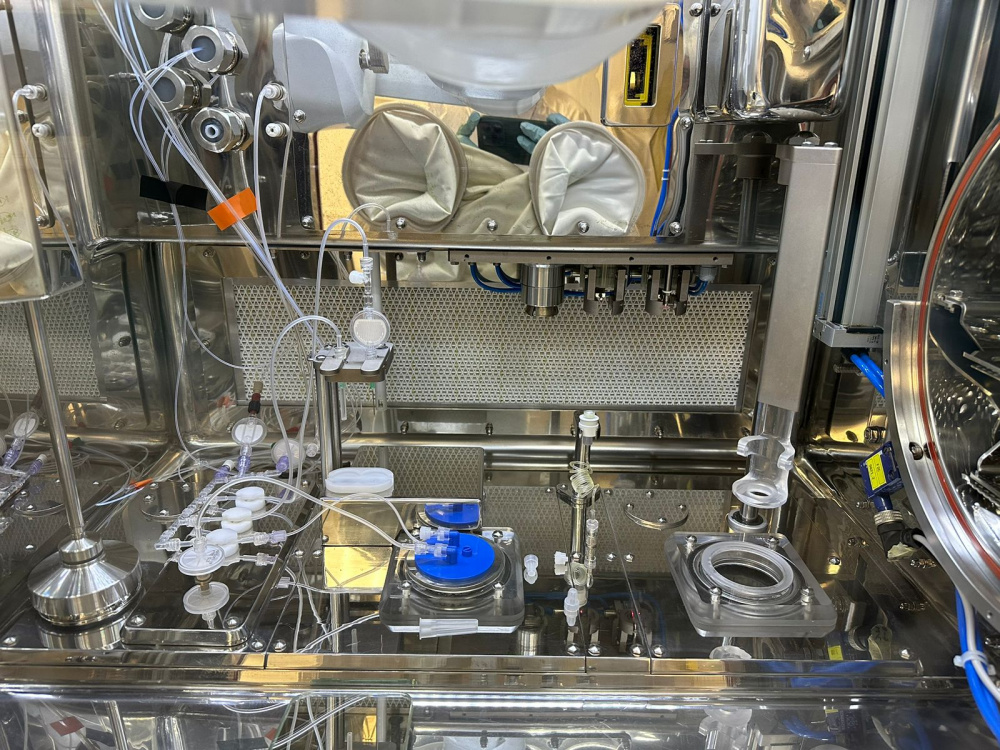Если заниматься оказанием помощи детям с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими нарушениями с самого рождения и постоянно, можно достичь удивительных результатов. Но для этого родители должны знать, что делать. Пока в России такое знание получить нелегко, считает Анна Битова, создавшая один из самых известных центров помощи детям с нарушениями и их семьям.
«Нарушение развития – не заболевание, а состояние»
– Существует закономерность: чем богаче и развитее страна, тем больше в ней инвалидов. Просто потому, что снижается количество тех, кого не заметили и кому не помогли. Насколько хорошо и полно видит детей с врожденными нарушениями российское здравоохранение?
– В разных регионах очень по-разному. Несколько лет назад мы ездили в Иркутск, и я спросила там: сколько у вас детей с расстройством аутического спектра? Мне говорят: 17 человек. Это в области с населением более 2,4 млн. Вообще-то российская статистика – один ребенок с аутизмом на 150 детей. На Западе их обнаруживается гораздо больше, и цифры у них постоянно растут. Американская статистика 2014 года: расстройство аутического спектра встречается у каждого 68-го ребенка. Несколькими годами раньше оно было у каждого 90-го. В Южной Корее аутист уже каждый 40-й. В Иркутской области должно быть несколько тысяч детей с аутизмом, а у них 17. Мне объясняют: у нас один детский психиатр на весь регион, это врач старой школы, слова «аутизм» вообще не признает. А эти 17 человек просто ездили в другие регионы на консультацию, оттуда и привезли диагноз. Если в регионе так мало детей с аутизмом, никто не станет делать специализированные сервисы, решать их проблемы. Детей нет – и проблем нет. Только когда набирается какое-то количество детей с определенным диагнозом, региональные власти могут понять, что надо что-то делать.
– А в целом в стране с диагностикой врожденных нарушений что-то меняется?
– Конечно, меняется. 20 лет назад, когда я еще работала дефектологом, были удивительные истории. Помню, одна мама мне тогда рассказывала: она узнала, что у ее ребенка фенилкетонурия, и решила его подлечить, увезла в деревню, там молочком отпаивала до года. Молоко при фенилкетонурии – это просто самое страшное. Это разрушающе действует на мозг. А если соблюдать диету, будет обычный человек, некоторые из них высшее образование получают, женятся. Ей тогда не смогли этого объяснить. А может, и не пытались, просто сказали диагноз формально. Но в последние годы в Москве я не встречала невыявленной фенилкетонурии. Так что за 20 лет эту проблему мы решили. На самом деле это ведь довольно распространенная вещь [один случай на несколько тысяч детей. – Vademecum], это должны понимать не только семьи с больными детьми, а весь социум. Потому что санитарка может сказать: бедный, голодный, родители не кормят, вот тебе хлебушек.
– С чего вообще начинается реабилитация детей с врожденными особенностями?
– Реабилитация – это возвращение утраченных возможностей. А ребенок был таким всегда, с рождения. Так что более корректно говорить «абилитация» – у него ведь не было никогда этих возможностей. Наверное, надо начать с того, что часть проблем выявляется во время беременности. С этого момента и надо действовать. Важно, как мы к этому отнесемся, – поможем людям, узнавшим такую новость, или окончательно испортим им жизнь. А дальше – роддом. Недавно ко мне пришла семья – родили ребенка с синдромом Дауна. Там у них были разные настроения – папа и бабушка вообще не хотели его брать, мама хотела. И вот, когда он родился, его положили в реанимацию, а маму выписали. Ей никто не сказал, что это вообще очень вредно – оставлять младенца без мамы на долгий срок. Неважно, синдром у него Дауна или нет никакого синдрома. Она в течение месяца обошла пол-Москвы, пытаясь получить ответ: можно взять домой такого ребенка, что будет? Наконец, набралась духа и забрала его. А этот потерянный месяц в его жизни – он очень значимый. Грудное вскармливание, ласка мамы, без этого они потеряли очень многое. Дальше они будут уже не абилитацией, а как раз-таки реабилитацией заниматься. Надо было, чтобы сразу возле них был психолог, чтобы объяснили маме, что происходит, поддерживали семью. Нужна была отдельная палата, чтобы мама с ребенком друг к другу привыкали, чтобы она видела, что не крокодила родила. Ведь что такое ребенок с синдромом Дауна? Это счастье одно, если сравнивать с какими-то другими синдромами. Да и другие синдромы бывают – полное счастье. А бывает несчастье без синдрома. У меня в этом смысле экстремистский подход, я считаю, что это круто – иметь такого ребенка. Я вижу семьи, которые усыновляют детей с тяжелейшими синдромами. Они считают, что это нормально, и это очень здорово. А тяжело с детьми в любом случае – любые дети болеют. Я стою на европейских позициях: нарушение развития – это не заболевание. Это состояние. Человек родился с синдромом кошачьего крика – ты ему никаким образом этот хромосомный набор не изменишь, он у него немножечко не такой, как у нас с вами. Но нужно сразу организовать его жизнь максимально развивающим образом, чтобы ребенок как можно более полно реализовал свои возможности.
– Неужели упущения одного-двух месяцев потом не наверстать?
– Мы сначала доводим дело до глубокой инвалидности, а потом начинаем ребенка оттуда вытаскивать. Что он мог за это время потерять? Сейчас уже есть объективные медицинские данные, что за время расставания с матерью, когда ребенок не чувствует внимания к себе, наступает повреждение клеток головного мозга. Постоянный дефицит стимуляции приводит к недоразвитию нервных связей и неправильному замыканию нейронных цепей. Я читала исследование: до трех-четырех лет максимальное время разлучения ребенка с матерью – три недели, дальше начинаются необратимые изменения. Необязательно это мама, должен быть просто значимый взрослый. Если мама заболела, папа или бабушка занимают это место. Когда мать многократно берет ребенка на руки, он довольно быстро начинает следить за ней глазами. А когда он лежит в коробке и вокруг мало кто ходит, прослеживание, эмоциональная реакция, улыбка не формируются. Она ведь достаточно быстро появляется у ребенка, в возрасте около месяца. Сейчас на Западе выхаживают даже очень маловесных детей, от 500 граммов, не разлучая с родителями. Весь в трубках, а лежит на животе мамы или папы. Ритм дыхания, который он должен был ощущать, находясь внутри, он продолжает получать снаружи. Есть такие данные о детях, которые лежали в боксах: там есть аппарат искусственной вентиляции легких, он работает в определенном ритме, и у новорожденных, которые провели таким образом больше трех недель, в ответ на эти ритмы возникают усиленное сердцебиение и другие физиологические реакции. Они на всю жизнь запомнили вместо мамы аппарат. Сегодня в ряде наших больниц можно находиться вместе с недоношенным ребенком часть дня или даже круглосуточно. Но в любом случае ты стоишь снаружи коробки и можешь только держать его за пальчик. Что он при этом получает – никому не известно.
«Поздравляем, вы попали в другую страну»
– Вы говорите, мама не знала. Кто и когда должен был ей все рассказать?
– Есть очень хорошая книжка Каролины Филпс, которая 25 лет назад родила ребенка с синдромом Дауна, – «Мама, почему у меня синдром Дауна?». Она не знала, что делать, была в полной растерянности. Прежде всего, к ней пригласили другую семью с таким же ребенком, но постарше. И в первое, самое тяжелое время они ее сопровождали. Эта модель всемирно известна, и для нашей страны она не секрет. Но это не входит ни в чью обязанность, не входит в протокол ведения пациента. У нас все происходит несколько иначе. Мне одна мама совсем недавно рассказывала: «Мне не говорили: «Оставь ребенка, не забирай». Но каждый спрашивал: «Что, неужели забираешь? Правда, что ли?» Было время, когда 90% детей с синдромом Дауна родители оставляли в роддоме, но сейчас уже гораздо лучше – примерно половину таких детей забирают. Есть еще одна симпатичная книжка, которую написали родители ребенка с синдромом Ретта [наследственное заболевание, которое встречается почти исключительно у девочек с частотой 1 на 10 тысяч – 1 на 15 тысяч и является причиной тяжелой умственной отсталости. – Vademecum]. «Мы вас поздравляем, – пишут они. – Вы попали в другую страну. У вас теперь все будет крутиться вокруг синдрома Ретта. Нельзя сказать, что вы будете несчастливы. Просто вы будете жить в другой стране, переезжать в которую не собирались». Очень сложно представить себе, что испытывают родители в первое время. Но потом может быть по-другому. Как написала одна из наших мам: «Вся наша семья счастлива, что у нас есть Маша». Потому что это принесло огромный дополнительный смысл в их жизнь, сделало их семью в маленьком городе центром, где собираются другие семьи. Это дает очень большие силы./p>
– А государство должно как-то в этом процессе участвовать?
– Конечно, государство просто обязано в этом участвовать. Хотя у него, в общем, это плохо получается. Родителей должны информировать, куда идти дальше. В первый год социальные работники должны приезжать к ним на дом и помогать. В год с небольшим ребенок с синдромом Дауна должен посещать какой-то реабилитационный центр, потом пойти в детский сад, в школу, – это нормальный путь. Понятно, что на каком-то этапе ему нужно заниматься с логопедом, на каком-то – развитием движений с физическим терапевтом. Надо привлекать эрготерапевта, чтобы оптимизировать навыки. У дочки Каролины Филпс все так и шло. Она училась в обычной школе, сейчас она хорошо говорит, работает, помогает в церкви, у нее есть бойфренд. Живет она с подружкой – одна все-таки боится. Примерно так это должно быть. Но у нас это очень зависит от того, где ты живешь. Не хватает информации. Например, приезжает семья из Казани. Ребенок тяжелый, с сильным отставанием в развитии и эпилепсией, прямо на приеме идет приступ за приступом. Я спрашиваю: зачем вы сюда приехали, у вас в Казани разве нет аналогичных центров? Она говорит: я ничего про это не знаю. Достаю справочник, нахожу несколько организаций в Казани, показываю. Оказывается, это на соседней с ними улице. Информации не хватает по всей стране.
– Кто мог бы ее распространять?
– Вообще, я как-то депрессивно звучу, но думаю, все не так плохо. Если смотреть длинную историю, то видно, что в регионах возникло очень много родительских групп, которые взялись за проблему и сами ее решают. Появляются один-два активных родителя, говорят: слушайте, ну что же такое. И процесс начинается. Есть семья, которая шесть лет ездила к нам в ЦЛП из Раменского, километров за 30 от Москвы. До железной дороги, на электричке, потом на метро, потом до нас на коляске. Девочка Таня очень тяжелая, а мама все это делает одна. В конце концов ей надоело, да и мы ее подпихивали – нашла там «коллег» и создала свой центр. Сначала на квартирах, потом местные власти дали им маленькое помещение, они там собираются, ведут занятия, периодически приглашают сторонних специалистов и постепенно растят своих. И теперь другие семьи из этой части Подмосковья мы направляем к ним.
«Никто не говорит родителям, куда идти»
– Вот так снизу все это развивать – единственный способ?
– Ну почему? Это государство должно делать, есть закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2015 года. Там описано, в каких случаях семья ставится на социальное сопровождение [например, один из достаточных критериев – «наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации». – Vademecum]. Они должны помогать ей получить лечение, реабилитацию, устроиться в образовательное учреждение. И они должны информировать, куда пойти. Если система заработает, все пойдет совсем по-другому. Но социальные работники пока еще сами не понимают, что они должны делать. Хотя примеров-то много. Я, например, 20 лет назад была на обучении в Англии – у них уже тогда существовала база родительских организаций для детей с разными особенностями по всей стране. Ты можешь набрать «синдром Ретта, Глостершир». И увидишь, что там этим занимаются такие-то организации. Поддержкой этой базы занимается частная компания, а все организации этой сферы, частные и государственные, покупают у нее обновления. Это самый настоящий бизнес.
– У нас есть что-то похожее?
– Мы «развлекаемся», делаем раз в несколько лет такую базу для Москвы. Уже поняли, что платить никто не хочет. Так хоть бы результатами нашими пользовались! Когда рождается ребенок с каким-то синдромом, никто родителям не говорит, куда идти. С роддомами трудно работать в этом направлении, это очень закрытые организации. Мы решили обратиться в поликлиники, ведь все равно все эти дети потом туда приходят. Собрали главных неврологов по районам, и выяснилось, что никто из них не знает, какие места для занятий с проблемными детьми есть на их территории. Потому что центры относятся к образовательной и социальной сфере, а поликлиники – это медицина. Сейчас вообще в Москве перестройка, и никто не понимает, как все устроено. У нас в городе три системы – образовательная, медицинская и социальная, и они не состыкованы друг с другом. Есть центры, которые занимаются реабилитацией, абилитацией, коррекцией, и есть ушлые родители, я ими восхищаюсь, которые получают помощь во всех трех системах. А есть, извините, лопухи, которые сидят дома, а потом в 17 лет приходят и говорят: а мы никуда не ходили, чего теперь делать? Не учились, не занимались, проживая в Москве, на Ленинском проспекте. Потому что им много лет назад сказали: а куда вы пойдете, он же у вас не говорит, необучаемый и так далее. Какой-то врач маму огрел этой дубиной, она ушла в депрессию. И все, они сидят дома. Таких очень много.
– Сколько вообще в России инвалидов детства? Сколько детей, нуждающихся в абилитации? Это близко к официальной цифре – 500 тысяч?
– У нас очень смешно получается – и в федеральном масштабе, и в Москве. У органов соцзащиты свои данные по инвалидам – самые большие, потому что они считают тех, кому платят пособие. В медицинской сфере инвалидов меньше, там видят только тех, кто хоть как-то лечится. В образовании – еще меньше. Я однажды рассказывала все это английскому коллеге, он слушал-слушал и говорит: странно, а у нас почему-то детей-инвалидов втрое больше, чем у вас. Там критерии шире, они деньги не так жалеют. У нас, если ребенку, например, поставили кохлеарный имплантат и он начал слышать, инвалидность пытаются снять. Хотя процессор, работающий вместе с имплантатом, нужно периодически менять, а это жуткие деньги [подробнее о проблемах детей с кохлеарными имплантатами – в материале «Выросло поколение врачей, которые не понимают, что такое ухо», VM #29 (96) от 31 августа 2015 года]. А у нас девочке Лерочке с синдромом Дауна пытаются снять инвалидность. Она сама ходит и ест, в туалет просится, в пять лет разговаривает, ходит в обычный детский сад. Значит, и инвалидность не нужна. А как же она тогда будет получать коррекционную помощь? Такая вот специфическая награда для родителей, которые по-настоящему занимаются со своими детьми. Отвечая на ваш вопрос, думаю, инвалидов детства в России на самом деле раза в три больше официальной цифры – 500 тысяч. Самая большая группа среди них – с психоневрологическими заболеваниями, процентов 30. Дальше идут нарушения слуха, зрения, опорно-двигательной системы. По заболеваниям тоже считают очень плохо. Если у ребенка несколько заболеваний, его учитывают по основному. Например, опорники – часть из них с сохранным интеллектом, а часть с психическими нарушениями, но все они будут учитываться как опорники. Тут вообще очень много проблем. Например, у нас сейчас открыли фонд, который помогает слепоглухим, точнее слабовидящим и слабослышащим. Это правительственная программа, правительственные деньги, нужно было произвести перепись этой категории людей. И не смогли, потому что нет диагностики. Если человек не видит и плохо слышит, то ему исследовать слух сложно, он же должен коммуницировать в процессе этого. Проводишь психолого-педагогическое обследование, видишь, что ребенок недостаточно слышит, недостаточно реагирует на звук, на речь, а проверить аппаратно не удается, особенно в регионах. Почему это так важно? Потому что если этому человеку надеть слуховой аппарат, у него будет совершенно другая жизнь. То же с очками. Я спрашиваю: почему у вас в детском доме все дети без очков? Что, ни у кого нет нарушения зрения? А мне отвечают: а как же им зрение проверишь? Я говорю: аппараты специальные бывают. А мне: ну это же их надо везти. В Москве все же обследуют, но дети все равно ходят без очков, потому что бесплатно выдают обычные очки. А дети ведь с отставанием в развитии, они могут развертеть, сломать, разбить, стеклом повредиться и так далее. Идея, что очки могут быть мягкие, – родительские дети у нас в мягких очках, разумеется, ходят, – пока еще не продвинулась на государственную территорию. А человек, который плохо видит, гораздо меньше знает об окружающем мире, плохо учится. Вот Антон у нас, забрали из детского дома в восемь лет и надели очки – он увидел ящик с игрушками, пошел и взял. Он их не видел до этого в достаточной степени. Что-то видел, потому что не слепой товарищ, но недостаточно детально. Это кардинально меняет качество жизни. А у нас, если смотреть на тяжелых инвалидов, полстраны без очков и без слуховых аппаратов.
– Я встречал в интернете объявления медицинских центров: «излечим аутизм», «снимем все симптомы ДЦП» и тому подобные. Как избежать встречи с жуликами в этой сфере?
– Мне кажется, сейчас очень много появилось хороших центров абилитации. Но есть и жулики. Говорят: заплатите нам много денег, и мы сейчас вашего ребенка излечим от аутизма. В нашей стране и синдром Дауна вот так излечивается. Встречаются небезопасные методы, которые могут привести даже к ухудшению состояния. Родителям надо быть аккуратными, выходить на сообщества родителей. Бывает, мама сходила в 10 мест – один прописал иголки, другой – таблетки, третий – ЛФК, четвертый вообще сказал: сидите дома, с таким идиотом делать нечего. И потом она мечется – дала таблетку, он стал агрессивным, избил ее. Перестала давать таблетки. Начали ЛФК – появились эпилептические приступы. Я ей говорю: куда же вы с такой энцефалограммой пошли делать агрессивное ЛФК без прикрытия? Тут надо очень осмотрительно все делать. А есть состояния, при которых очень трудно найти помощь, прежде всего, если ребенок поведенчески очень тяжелый. Недавно приводили хорошую, продвинутую девочку – такая симпатичная, с речью. У нее, скажем так, задержка развития, особенности эмоционально-волевой сферы и расторможенность. Я ее в три центра отправила. Папа потом рассказал: пошли в один центр, а она не стала разговаривать с нейропсихологом. К ней подход нужен, она немножко специфическая. Причем, на мой взгляд, совсем не грубое нарушение у девицы.