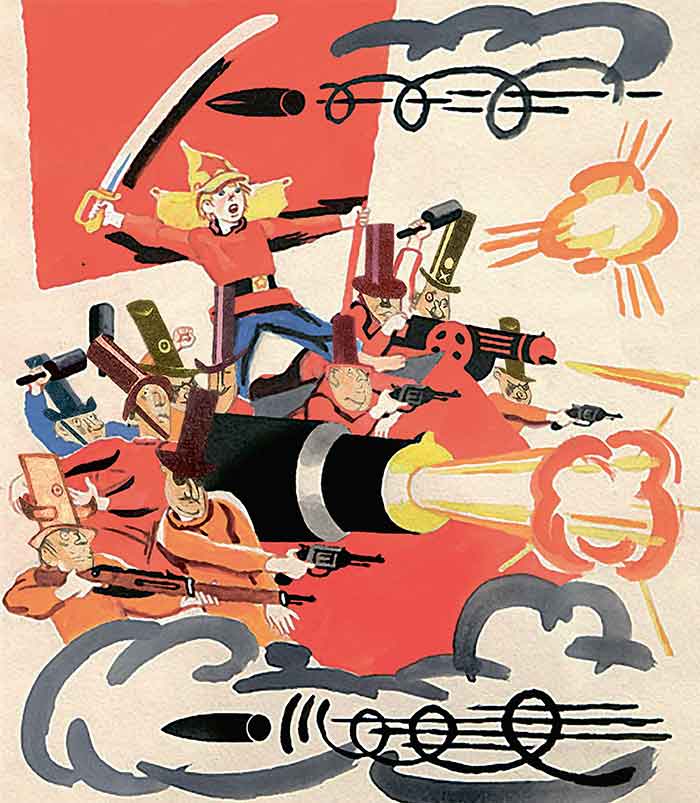Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара завершил первое в России исследование государственно‑частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении. Сделанный по заказу ФФОМС отчет стоимостью 1,8 млн рублей должен был сформировать у целевой аудитории понимание, что такое ГЧП в медицине, выявить его основные формы и дать отделениям ФОМС методические рекомендации по работе с этим механизмом. Однако из‑за закрытости сегмента институту удалось детально оценить эффективность только трех партнерств, а само понятие «ГЧП в здравоохранении» так и не получило внятных критериев и было признано гайдаровцами «аморфным».
МОДНЫЙ ЗАГОВОР
Идея провести отдельное исследование по ГЧП в здравоохранении возникла у представителей ФФОМС в конце 2012 года – на волне популярности этой темы в госорганах. Минэкономразвития подготовило первую редакцию проекта федерального закона ≪Об основах ГЧП в Российской Федерации≫, а Вероника Скворцова начала делать первые заявления об эффективности механизмов ГЧП в индустрии здравоохранения. ≪Минздрав тогда начал задумываться о формировании стратегии ГЧП в медицине, а у ФФОМС был бюджет на проведение научно-прикладных исследований≫, – поясняет близкий к ведомству источник.
В марте 2013 года ФФОМС провел конкурс на ≪Исследование возможных форм государственно-частного партнерства в целях повышения качества оказания медицинской помощи в условиях реализации федеральных законов ≪Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации≫ и ≪Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации≫ с начальной ценой контракта в 2,4 млн рублей. Согласно конкурсной документации, в срок от 190 до 260 дней исполнитель должен был провести анализ самых значимых из имеющихся проектов ГЧП в медицине, сформировать типовые программы действий по реализации ГЧП для госорганов, территориальных фондов ОМС и частных компаний, разработать технологию распределения рисков между партнерами и провести апробацию экспертных программ в 10 субъектах РФ. При этом одной из основных целей исследования было определить, что такое в принципе ГЧП в здравоохранении. ≪В настоящее время термин ГЧП используется для обозначения любых форм отношений между государством и бизнесом: от создания СП до размещения госзаказа, – признавали авторы конкурсной документации. – Необходимо сформировать новое понятие о ГЧП как об определенном типе отношений, действующих в ограниченный период времени на заранее определенных условиях≫.
На конкурс подали заявки восемь участников: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ФГБУ ≪ЦНИИОИЗ≫ Минздрава России), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, НИУ ≪Высшая школа экономики≫, МГИМО МИД России, Московский научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинской экологии Департамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ ≪МНИИ ОЗиМЭ ДЗМ≫), компания ≪Базис-Мед≫ и Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Самую высокую стоимость контракта – 2,3 млн рублей назвал ФГБУ ≪ЦНИИОИЗ≫ Минздрава России, а минимальную цену в 500 тысяч рублей – заявил ГБУЗ ≪МНИИ ОЗиМЭ ДЗМ≫. Победителем конкурса стал Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП), предложивший провести исследование за 190 дней и 1,8 млн рублей.
≪Мы являемся идеологическими сторонниками расширения присутствия частного сектора не только в здравоохранении, но и во всех других отраслях. Поэтому, безусловно, проект был нам интересен≫, – объясняет заведующий лабораторией межбюджетных отношений ИЭП Владимир Назаров. По его словам, в конце декабря исследование было завершено и сдано в ФФОМС. Представители фонда не ответили на запрос VM о том, что именно им удалось получить за 1,8 млн рублей.
Однако сотрудники гайдаровского института ознакомили VM с основными выводами исследования. Всего в своей работе институт рассмотрел 15 медицинских проектов ГЧП, реализованных в России в последние три года, и провел их анализ, опираясь на открытые источники, опросы участников партнерств и документацию медицинских учреждений. ≪Уровень детализации анализа существенно отличается по проектам. Рынок медицинских услуг очень закрыт, поэтому кто-то предоставил нам полную информацию, а кто-то ограничился только общими фразами или ссылками на сайт. В результате детально удалось разобрать и просчитать эффективность только трех примеров ГЧП в здравоохранении – опыт работы компании ≪АВА-ПЕТЕР≫ в Татарстане и проекты транспортного аутсорсинга на станциях скорой помощи, – признается Владимир Назаров. Тем не менее дефицит информации не помешал авторам исследования сегментировать ГЧПна основные типы и сформировать рекомендации по преодолению рисков работы с ними.
КОНЦЕССИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Самой распространенной формой ГЧП в здравоохранении, по данным авторов исследования, оказалась концессия. При таком сотрудничестве выбранная по конкурсу компания вкладывает средства в реконструкцию и оснащение учреждения, получает его в управление на оговоренный в соглашении срок и оказывает медпомощь в системе ОМС, в ряде случаев зарабатывая также на коммерческих услугах.
Популярность концессий в ИЭП объясняют прозрачностью механизма сотрудничества. ≪Во-первых, существует отдельный федеральный закон ≪О концессионных соглашениях≫. Кроме того, другие формы ГЧП, например, совместное предприятие, требуют значительно большей координации усилий между частником и государством. При концессионном соглашении можно жестче разграничить полномочия каждой из сторон≫, – поясняет Владимир Назаров.
Преимущества такой формы партнерства доказывают разобранные в отчете ИЭП примеры концессий, в частности опыт вхождения в ГЧП казанского Центра планирования семьи и репродукции. Чтобы привлечь средства на модернизацию центра и повысить доступность операций ЭКО в регионе, правительство Республики Татарстан три года назад передало медучреждение в управление санкт-петербургской компании ≪АВА-ПЕТЕР≫. Партнерство строилось по принципу ≪классической концессии≫. По словам генерального директора компании Глеба Михайлика, ≪АВА-ПЕТЕР≫ вложила более 50 млн рублей в реконструкцию и переоснащение центра, а власти со своей стороны финансируют не менее 400 циклов ЭКО в год. Помимо работы с программой госгарантий центр оказывает и платные услуги. Например, в 2013 году здесь наряду с 830 циклами, которые финансировались по ОМС и программам высокотехнологичной медицинской помощи, было реализовано 490 коммерческих циклов ЭКО. ≪Схема обеспечила центру положительную рентабельность уже в первые годы работы≫, – замечает Владимир Назаров. Представители ≪АВА-ПЕТЕР≫ довольны партнерством и рассчитывают окупить вложения уже к 2017 году. И с точки зрения государства ИЭП оценивает сотрудничество республики с концессионером как успешное – с начала работы центра результативность ЭКО в среднем по региону выросла на 10%. ≪В 2012 году в центре провели 671 операцию ЭКО, в то время как в период с 2008-го по 2010 год во всем Татарстане было проведено только 650 операций≫, – говорит Владимир Назаров. Единственная проблема, которую не удалось решить, отмечает аналитик, – это очереди. После передачи центра в управление ≪АВА-ПЕТЕР≫ обращаемость к операциям ЭКО резко выросла – с 2,5 тысячи супружеских пар в 2011 году до 3 тысяч супружеских пар в 2012 году.
Еще один пример успешной концессии, по мнению авторов исследования, – реконструкция здания бывшего роддома №1 в Новосибирске. Два года назад генеральный директор новосибирской компании ≪Авиценна≫ Борис Айзикович заключил с мэрией соглашение, по которому получал этот объект в управление на 20 лет и принимал обязательства по его капитальному ремонту. Тогда предприниматель хотел расширить комплекс медучреждений ≪Авиценна≫ – другая часть того же здания уже находилась в собственности компании. ≪Обычно мы стараемся покупать объекты, но здесь речь шла о памятнике архитектуры, построенном в 1898 году, и по ряду законодательных моментов это было невозможно. Поэтому концессия была скорее вынужденной мерой≫, – признается Борис Айзикович. По договору ≪Авиценна≫ должна была вложить в реконструкцию здания 60 млн рублей, но по факту в ремонт и оснащение пришлось инвестировать 10 млн долларов.
≪Реконструкция длилась два года. Здание было очень ветхим и не соответствовало современным требованиям≫, – поясняет предприниматель. Кроме того, по концессионному соглашению центр должен проводить за свой счет 48 операций ЭКО в год, общие расходы на которые составляют 5-6 млн рублей, а также отчислять мэрии концессионную плату. ≪Начинать такой проект с нуля нам было бы невыгодно. Инвестиции оправдывают себя только за счет того, что центр был интегрирован в общий комплекс наших учреждений, и нам удалось значительно расширить свое направление ЭКО≫, – говорит Айзикович.
Концессионные проекты сами по себе в редких случаях оказываются выгодными для частника, соглашаются отраслевые эксперты. ≪Экономический смысл ГЧП при отсутствии здания в собственности неочевиден: инвестиции в проект полноценной частной клиники составляют как минимум 300 млн рублей и могут вернуться примерно за три года. А окупаемость концессии, где частник оказывает услуги по ОМС, может растянуться на пять и более лет≫, – отмечает управляющий партнер компании ≪Базис-Мед≫ Андрей Алмазов. Партнер Tenzor Consulting Group Роман Джапаридзе добавляет, что концессионные соглашения могут успешно работать не во всех российских регионах: ≪Если, например, в Татарстане действуют приемлемые тарифы ОМС для покрытия расходов учреждения, то во многих других областях они не обеспечивают даже части затрат. И тогда компания будет работать себе в убыток≫. Борис Айзикович из ≪Авиценны≫ называет в числе потенциальных угроз успешного ГЧП разногласия междупартнерами в части оказания услуг по ОМС: ≪Есть большие различия в стандартах использования расходных материалов и непосредственно оказания услуг. Например, в нашем частном стационаре средняя продолжительность пребывания составляет 1,2 койко-дня, а в государственных больницах этот показатель в несколько раз больше≫.
В то же время для государства, отмечают авторы исследования из гайдаровского института, концессия остается формой сотрудничества, ≪сбалансированной с точки зрения рисков≫. Конечно, гарантировать полностью беспроблемное партнерство сложно. Например, частник может не вовремя завершить работы по строительству и реконструкции учреждения, а получив его в управление, некачественно оказывать услуги, но эти сложности разрешимы. ≪Государство может задействовать свои резервные мощности, пока реализуется проект, а некачественное оказание услуг – исключить с помощью стандартизации, зафиксированной в соглашении между партнерами≫, – говорит Владимир Назаров.
Не все представители власти разделяют оптимизм ≪гайдаровцев≫. ≪Призываю не питать особых иллюзий и надежд в отношении концессий. Издержки, которые мы несем при финансировании через модели ГЧП, зачастую перевешивают те плюсы, которые мы в конечном итоге получаем≫, – заявляла прошлой весной отвечающая за здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская. А представитель Министерства здравоохранения Самарской области считает, что самый большой риск классической концессии для государства – потеря контроля над медучреждением: ≪Может сложиться ситуация, когда, например, частнику надоест управлять клиникой, и тогда население на длительный период останется без медуслуг. Это особенно критично для социально значимых видов медпомощи, как, например, диализ, в котором важен непрерывный цикл лечения≫.
РАЗВЕДКА «КВАЗИ»
Сотрудничеству государства и частных компаний в лечении гемодиализа ИЭП посвятил отдельную главу, объединив такие примеры под термином ≪квазиГЧП≫ (VM исследовал российский рынок гемодиализа в материале ≪Почечные удары≫ – см. #7 от 8 июля 2013 года). Сейчас любая частная компания, открывающая диализный центр в России, вынуждена договариваться о партнерстве с государством. ≪Лечение гемодиализа – очень дорогой и длительный процесс, пациент в очень редких случаях может оплатить его из собственных средств. Поэтому почти все услуги в центрах оказываются по ОМС, а доля пациентов, которые лечатся за свои деньги, ничтожно мала≫, – поясняет медицинский директор ≪Б.Браун Авитум Руссланд≫ Валерий Шило. Активный выход частников на этот рынок наблюдался в последние два года, и каждый из них уже выработал свою схему работы с региональными властями. К ≪квазиГЧП≫ авторы исследования из ИЭП отнесли опыт и ≪Фрезениус НефроКеа≫, и ≪Б.Браун Авитум Руссланд≫, управляющих сетями диализных центров в ряде субъектов РФ.
≪Мы на свои деньги строим центры и нанимаем персонал. При этом мы обслуживаем пациентов по ОМС и налоги от нашей деятельности получает регион, в котором работает центр≫, – рассказывает представитель ≪Фрезениус Медикал Кеа≫ Надежда Глубокова. Средние инвестиции в строительство центра, работающего по такой схеме и рассчитанного примерно на 40 мест, по ее оценкам, составляют 200 млн рублей, а срок его окупаемости – более 10 лет. Валерий Шило из ≪Б.Браун Авитум Руссланд≫ говорит, что ≪в регионах с адекватным тарифом≫ его компания предпочитает с нуля строить собственные центры, а там, где тариф этого не позволяет, создает центры на арендованных площадях, что снижает первоначальные затраты.
Главной проблемой работы с государством представители диализных центров называют зависимость от ≪административного ресурса≫. Топ-менеджер компании ≪Фонд Юнона≫, также управляющей диализными центрами, рассказывает, например, что недавно вмешательство чиновников помешало ему открыть новый диализный центр в Тольятти. ≪Прошлой осенью мы построили здание центра и готовилиськ началу работы, но сейчас собираемся сдать его государственной больнице. Нам дали понять, что поддержка в области привлечения пациентов по программе госгарантий будет оказана не нам, а конкурентам≫, – поясняет собеседник VM.
Владимир Назаров из ИЭП отмечает именно в диализном ГЧП обратный тренд – частные компании часто давят на чиновников, настаивая на высоком уровне тарифов ОМС для своих центров: ≪Регионы, в особенности те, у которых нет собственных средств на строительство диализных центров, в этом случае зависят от частника, и им приходится идти навстречу, соглашаясь на высокие тарифы для отдельных учреждений≫.
Участники рынка, правда, не соглашаются с аналитиком. ≪В регионах, как правило, действует единый тариф на лечение диализа во всех медучреждениях, у нас нет возможности на него повлиять≫, – возражает Надежда Глубокова из ≪Фрезениус НефроКеа≫. С ней солидарен представитель ≪Фонда Юнона≫: ≪Мы приходим в регион уже на устоявшийся тариф ОМС≫. При этом руководители диализных центров отмечают, что приемлемый для них тариф на лечение диализа составляет минимум 4 тысячи рублей. Представители Министерства здравоохранения Самарской области тоже говорят, что в регионе действуют единые тарифы ОМС для всех диализных центров, но чтобы минимизировать риски, чиновники разработали особую схему партнерства правительства, инвестора и медицинской организации. ≪Инвестор вкладывает средства только в организацию технологического процесса: реконструкцию помещения, оснащение оборудованием, организацию технологического обслуживания процесса, осуществляет поставку медикаментов и расходных материалов, а управление и оказание медицинской помощи при этом остается за самим медучреждением, – рисует жесткую схему замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян. – Затраты инвестора компенсируются из соответствующих статей расхода в регулируемом тарифе, возвратных платежей из бюджета или других механизмов, определенных концессионным соглашением. Таким образом, медицинская организация сохраняет кадры и не выбывает, пусть даже временно, из процесса организации медицинской помощи≫.
ГАРМОНИЯ ВЛОЖЕНИЯ
Еще одна форма ГЧП, которая, по мнению авторов исследования, может быть успешной в регионах с платежеспособным спросом – совместное предприятие. ≪Государство в этом случае вкладывает в совместную компанию здание и землю, а частник инвестирует в капитальный ремонт, оборудование, управляет учреждением, получая доход от платных услуг≫, – рассказывает Владимир Назаров.
Правда, таких примеров пока немного – частные компании неохотно идут на значительные инвестиции в проект медучреждения, где все существенные решения необходимо согласовывать с государственным партнером. Кроме того, ожидания частников по срокам и инвестициям в проект часто не оправдываются. Например, в белгородскую поликлинику ≪Гармония здоровья≫, принадлежащую страховой компании ≪МАКС≫ и ОГБУЗ ≪Городская больница №2 г. Белгорода≫ было вложено 350 млн рублей – в несколько раз больше, чем планировалось изначально. ≪Учреждение было создано в прошлом году: область предоставила для него землю и здание, а ≪МАКС≫ сделал ремонт и закупил необходимое оборудование. Потом руководство клиники несколько раз менялось, корректировались планы по финансированию. В итоге ≪МАКС≫ как партнер в проекте был вынужден вложить в текущую деятельность клиники дополнительные средства, на которые не рассчитывал≫, – рассказывает представитель клиники. ≪Гармония здоровья≫ работает c прошлой осени, и оценить эффективность СП стороны пока не берутся. ≪О рентабельности проекта можно будет говорить не раньше, чем через год–полтора≫, – признается собеседник VM.
Генеральный директор ≪АВА-ПЕТЕР≫ Глеб Михайлик говорит, что проект клиники ≪АВА-Казань≫, акционерами которого выступила его компания вместе со страховой медицинскойорганизацией ≪АК БАРС-Мед≫ и казанской горадминистрацией, оказался более длительным, чем планировалось вначале. ≪Здание, которое было передано нам правительством города для открытия клиники, находилось в аварийном состоянии. В отличие от казанских инвесторов, которые так вольно относятся к памятникам, мы воспитаны на традициях петербургской культуры, поэтому бережная реконструкция, конечно, усложнила проект≫, – отмечает он. Всего ≪АВА-ПЕТЕР≫ вложила в проект 22 млн евро, рассчитывая на окупаемость этих средств в течение 15 лет. ≪Отдачу мы планировали очень осторожно, потому что цены в Казани значительно ниже, чем в Санкт-Петербурге≫, – говорит Глеб Михайлик.
АУТСКОРСИНГ
К отдельной форме ГЧП авторы исследования из института Гайдара отнесли сотрудничество станций скорой помощи с транспортными компаниями по схеме аутсорсинга. ≪Возможно, это не является в чистом виде ГЧП. Однако мы включили в исследование такой опыт, чтобы подтолкнуть органы региональной власти к реализации этой идеи у себя≫, – признается Владимир Назаров.
Аутсорсинг в данном случае выглядит следующим образом: в результате конкурса станция скорой помощи привлекает транспортную компанию, которая предоставляет машины и управляет штатом водителей. Автомобили дежурят на станции 24 часа в сутки, и это время оплачивается из средств ОМС в соответствии с изначально оговоренными тарифами. Партнерство выгодно обеим сторонам – станция скорой помощи получает новые машины, а частник – постоянный заказ. ≪За счет эффективного управления и экономного использования топлива и горючего рентабельность таких проектов для частной компании может достигать 30%≫, – отмечает Владимир Назаров. По его словам, в Перми, где схема аутсорсинга транспортных услуг реализуется уже несколько лет, среднее времяожидания машин скорой помощи удалось сократить с 25 до 21 минуты.
Руководитель проекта ≪Новая скорая помощь≫ Евгений Фридман (об успехах и неудачах его проекта VM написал в #1 от 20 мая 2013 года и в #15 от 30 сентября 2013 года) говорит, что одним из основных рисков для частной компании при работе с такой схемой является зависимость от региональных властей, которые могут досрочно расторгнуть контракт. ≪Выходя в новый регион, мы, как правило, покупаем машины в кредит, который затем погашаем за счет оказания услуг. Но, например, в Волгограде власти расторгли с нами договор, когда мы уже успели закупить машины. В результате убытки компании достигли около 100 млн рублей≫, – рассказывает Фридман. Риски для госзаказчика, говорит Владимир Назаров, заключаются в несвоевременной поставке машин транспортной компанией, однако они нивелируются системой штрафов и гарантий, которые могут быть оговорены изначально при заключении соглашения.
На этих, прямо сказать, немногочисленных примерах авторы исследования попытались выявить основные критерии государственно-частного партнерства в здравоохранении. По словам Владимира Назарова, в рамках ГЧП государство определяет объем и качество предоставляемых услуг, сохраняя за собой право собственности на объект. Частный партнер, со своей стороны, получает доход от проекта в размере платы за оказание услуг, а также несет свою долю рисков управления проектом. Таким образом, к ≪чистым≫ примерам ГЧП, по мнению авторов исследования, относятся концессия и совместные предприятия, например, сети клиник ≪Медси≫ и московской мэрии. Однако под установленные критерии не подпадает целый ряд примеров ГЧП, разобранных в исследовании, например, аутсорсинг или сотрудничество диализных центров с территориальными фондами ОМС, когда здание медцентра строит частный инвестор. ≪Понятие ГЧП в здравоохранении пока очень аморфно≫, – признается Владимир Назаров.