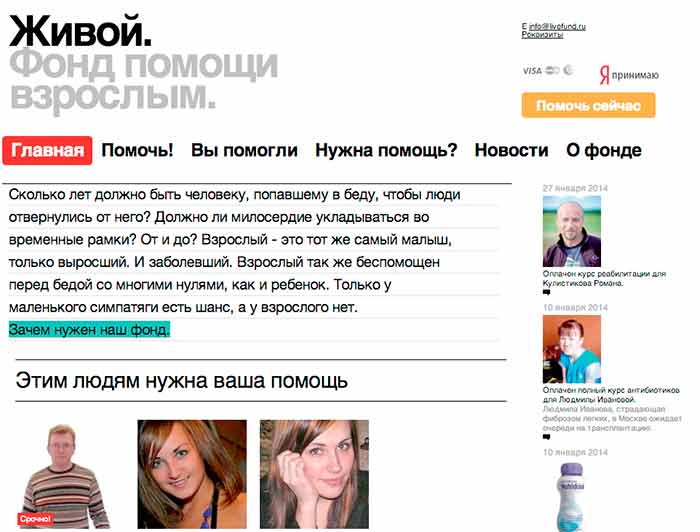Искать деньги для больных детей в России проще, чем для тех, кому не повезло сначала вырасти, а потом заболеть. Детей жалеют, а взрослые, по распространенному мнению, должны сами решать свои проблемы. Большинство фондов следуют в русле общей тенденции – 16 из 20 крупнейших (см. рейтинг VM) называют своей основной целью помощь больным детям. Или, в крайнем случае, «молодым взрослым». Фонд «Живой» идет против течения: четвертый год он собирает средства на лечение, реабилитацию и лекарства исключительно для взрослых. Оказывается, для успеха иногда достаточно напомнить благотворителям о том, что взрослые когда‑то тоже были маленькими.
Зимой 2009 года директор благотворительного собрания «Все вместе» и фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант, листая ЖЖ, наткнулась на сообщение о сборе средств для Тимура Аванесова. 28-летний врач-радиолог из Ташкента боролся с острым лимфобластным лейкозом. «Максимально срочно нужно набрать порядка $40 тысяч на типирование потенциальных доноров из израильского регистра доноров костного мозга. В России ему никто не подходит по крови – у него редкая смесь из армянской, русской, иранской и польской национальностей, а в Израиле потенциальных доноров для него 200 человек», – писала директор фонда «Благотворительное общество «Адреса милосердия» Ольга Пинскер. Но деньги собирались с большим трудом. «Очень хотелось помочь этому человеку. Тимур не только боролся за свою жизнь, он вызывал сочувствие. Это важно, потому что благотворительность во многом основана на эмоциях, а не на разуме», – рассказывает Бермант. Обсудив проблему с коллегами из других благотворительных сообществ, она выяснила, что в фонды регулярно поступают заявки от взрослых людей. Однако по уставу большинство таких организаций могут помогать только детям. А «универсальные» – собирающие средства и детям, и взрослым – не в силах помочь абсолютно всем.
ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ
Вскоре «Все вместе» организовало проект «Не только дети», в рамках которого проводились акции по сбору денег для тяжелобольных взрослых – сначала просто на сайте «Все вместе», затем на специально устроенном празднике в центре современного искусства «Винзавод». Всего тогда удалось собрать 392 тысячи рублей для шести нуждающихся. Среди них был и Тимур, однако спасти его не удалось: он умер 30 декабря 2009 года. В его память осенью 2010 года был создан фонд «Живой», который взялся за сбор средств на лечение и реабилитацию взрослых – тех, кому от 18 до 60 лет. «Нельзя объять необъятное, к тому же фонды, помогающие пенсионерам, уже были», – объясняет наличие верхней возрастной планки директор «Живого» Татьяна Константинова. Вообще, объясняет она, «универсальность» ставит фонд в проигрышное положение: «Нужно знать гораздо больше лечебных учреждений, чтобы правильно потратить собранные средства, расширяется круг необходимых медицинских экспертов, требуется больше сотрудников и времени. Лучше заниматься, к примеру, только заболеваниями сердца, иметь одного-двух экспертов, работать с Центром Бакулева и «долбить» эту проблему».
Константинова на протяжении многих лет помогала различным благотворительным организациям и была хорошо известна в этой сфере. Именно ей коллеги-благотворители предложили создать фонд с нуля. Управленческие функции тоже не были для Константиновой в новинку: в конце 90-х она была помощником гендиректора на одном из заводов в Тольятти, затем управляла рестораном в Жигулевске. В Москву приехала в 2006 году заниматься ресторанным бизнесом – руководила французским рестораном на Пречистенской набережной, открыв сеть фастфудов. Но после кризиса 2008 года ушла с управленческих позиций, специализировалась на консультировании и еще больше погрузилась в благотворительность.
Регистрация, которая полностью легла на плечи директора, заняла все лето. «Ходила в Минюст, как на работу», – вспоминает Константинова. Первые полтора года она была единственным работником фонда. Сейчас в «Живом» работает и медицинский специалист – бывшая врач-реаниматолог Ася Доброжанская.
«Первенцем» фонда стал 42-летний петербуржец, у которого образовался свищ пищевода и для нормального питания требовался стент. «Нужно было найти в пределах 20–30 тысяч рублей. Казалось, что я никогда не соберу таких денег», – вспоминает Константинова. «Жил человек и вдруг тяжело заболел. Денег на лечение нет. Полная безнадежность. При этом он – обычный взрослый мужик 35 лет с лысинкой и пузиком. Кто ему поможет? А ведь ему же пятилетнему помогли бы многие», – рассуждает Бермант. Из этого рассуждения и родилась четыре года назад идея: с помощью «Все вместе» организовали фотовыставку, для которой 15 фотографов сделали портреты тяжелобольных взрослых, с собственными детскими фотографиями в руках. В результате необходимую сумму удалось собрать довольно быстро.
В 2013 году «Живой» собрал 12,7 млн рублей, почти в два раза больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых (в 2010–2012 годах – 6,7 млн рублей). Но дело не в изменении настроения в обществе, а скорее, в счастливой случайности, вздыхает Константинова: «Порой появляются доноры, которые готовы потратить крупные суммы на конкретных больных». Основная часть средств фонда – частные адресные пожертвования. «Почему-то крупные юрлица пока не обращают внимания на помощь взрослым, а если и обращают, то очень редко. Как правило, перед Новым годом или другими праздниками, но все равно это разовые акции», – сетует директор фонда.
Сопредседатель общественной организации «Город и транспорт» блогер Антон Буслов (с января 2011 года борется с лимфомой Ходжкина и сам проводил сборы интернет-пожертвований на лечение) на личном опыте испытал, что ребенок вызывает гораздо больше сочувствия и желания помочь, чем взрослый с такой же болезнью. «А государство находится по ту сторону баррикад в вопросе болезней: чтобы вылечиться, придется пройти не только все муки лечения, но и все круги ада бюрократии», – говорит Антон Буслов.
Сайт, соцсети и блог Константиновой – главные орудия «Живого» для сбора средств. Часто поступают небольшие взносы из регионов – Константинова не изучала эту тему специально, но судя по тому, что отправители представляются по имени-отчеству, доноры – пенсионеры. Однократные суммы частных пожертвований составляют от 100 рублей до 300 тысяч рублей, иногда и больше. Например, в 2011 году фонд проводил срочный сбор средств для 28-летней москвички, у которой случился инсульт и существовал риск повторного. На операцию в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко надо было собрать 250 тысяч рублей. Всю сумму обеспечил один донор. Незадолго до этого он вместе с супругой побывал на мероприятии фонда и загорелся идеей – помочь нуждающимся.
КВОТЫ И ЖУЛИКИ
На лечение, которое должно обеспечиваться государством, «Живой» деньги не собирает. Вместе с пакетом документов в фонд надо направить сведения об отсутствии соответствующей квоты. Но нередко граждане в принципе не догадываются, что такое квота на лечение, и уж тем более не знают, как ее получить. Поэтому фонд и стал проводить консультирование. «При нашем уровне бюрократизма получить государственное лечение, конечно, непросто. У нас ведь как получается: «Нам по телефону сказали, что квоты нет». Кто сказал? Все подобные переговоры с чиновниками должны вестись письменно. Надо требовать официальные отказы с подписями и указанием учреждения. Как только чиновники понимают, что человек в теме, они начинают работать», – убеждена Константинова.
Бывало в ее практике, что неосведомленностью пациентов и их родственников пользовались и медики. Так, в фонд обратилась женщина из Саратова, сын которой выпал из окна и сломал позвоночник. «Скорая» доставила молодого человека в одну из московских больниц (ее номер Константинова назвать отказалась), где матери сообщили, что требуется стабилизирующая операция стоимостью 190 тысяч рублей. О том, что на такую операцию можно получить квоту, врачи не сообщили. В поисках денег женщина обратилась в фонд «Живой», и вскоре главному врачу больницы позвонили. «Ему было сказано буквально следующее: «Дорогой товарищ, если ваши подчиненные не начнут выполнять свои прямые обязанности, то мы будем разговаривать в другом составе». Все мгновенно решилось – человеку дали квоту и сделали операцию», – говорит Константинова.
Впрочем, и те, кто обращается за помощью, не всегда безгрешны. Весной прошлого года в фонд позвонила женщина и поведала трагическую историю своей дочери, страдающей тяжелым заболеванием – легочной гипертензией, которая обострилась во время беременности. В результате ребенка она потеряла и долго лежала в реанимации. Ей срочно требовалось не входящее в список льготных препаратов лекарство стоимостью около 1 млн рублей. Иначе, скорее всего, смерть. Просительница направила в фонд пакет подтверждающих документов. Как всякий уважающий себя фонд, «Живой» проверяет поступающие заявки: просители обычно не в том состоянии, чтобы четко оценить, например, возможность бесплатного лечения или размер необходимой помощи. На первый взгляд все было чисто: в «Живом» уже настроились на ответ «да», но тут выяснилась неожиданная деталь. Коллеги из фонда «Гольфстрим» рассказали Константиновой, что к ним эта женщина тоже обращалась, и они выяснили, что документы – поддельные.
«Мы связались с больницей, в которой якобы обследовалась дочь этой женщины. В учреждении данную пациентку не знают. Документы, подписи и печати не настоящие», – пояснила VM учредитель и президент фонда «Гольфстрим» Марина Зубова. Фонды обратились в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что «больная» практически здорова, но в семье есть мальчик с неизлечимым заболеванием, связанным с генетическими причинами, – атрофией головного мозга. «Мозг ребенка постепенно умирает. Ситуация настолько безнадежна, что еще в 2011 году его отказались лечить даже в США», – рассказывает Татьяна Константинова. Для него неоднократно собирали средства различные фонды (в частности, «Помоги.Орг»). Константинова полагает, что семья зарабатывала на болезни ребенка: оказалось, что в собственности у них две иномарки и компания, основной вид деятельности которой – торговля медицинскими препаратами. Суд учел ситуацию в семье обвиняемой и за подделку документов назначил ей более чем гуманное наказание – штраф в размере 25 тысяч рублей.
БЛИЗОСТЬ НА «УДАЛЕНКЕ»
Пока в России нет аналогов «Живого». Существует ряд организаций, которые помогают как детям, так и взрослым. Например, фонды «Предание», «Помоги.Орг», «Созидание», «АдВита», «Наташа», «Кислород», «Подари жизнь» (последний, правда, ставит ограничение – до 24 лет). «В таких фондах деньги в основном собираются «на детях», а из того, что собрано безадресно, часть идет на лечение взрослых», – поясняет Константинова. Похожую ситуацию описывает координатор программ фонда «АдВита» Елена Грачева: «Общая сумма, собранная «АдВитой» за прошлый год, составляет 309,8 млн рублей. Как правило, у нас более половины пожертвований, даже две трети – безадресные. Это позволяет нам помогать тем пациентам, которым адресно никто денег не жертвует».
Зимой Константинова не ездит в московский офис «Живого», который находится неподалеку от Киевского вокзала: она живет под Москвой в доме с печным отоплением и не может надолго его оставить, иначе все вымерзнет. Но на деятельности фонда, по ее словам, это не сказывается – главные орудия Константиновой, интернет и телефон, всегда при ней.
В прошлом году «Живой» сумел помочь 53 нуждающимся. В основном деньги были потрачены на реабилитацию после спинно- и черепно-мозговых травм. По программе ОМС таким больным предоставляются бесплатная медпомощь и реабилитация в течение года после травмы. Но зачастую человек не успевает восстановиться за это время. «Государством более длительная реабилитация не покрывается, – объясняет Константинова. – Не восстановился – до свидания».
Фонд, помимо прочего, работает адресно с медицинскими учреждениями, например, с НИИ им. Н.В. Склифосовского. Второй год «Живой» покупает больным аппараты для поддержки дыхания и дорогостоящие препараты для пациентов, ожидающих пересадки легких. Эту деятельность Константинова хочет вывести на новый уровень – разработать специальную программу и найти на ее реализацию средства.