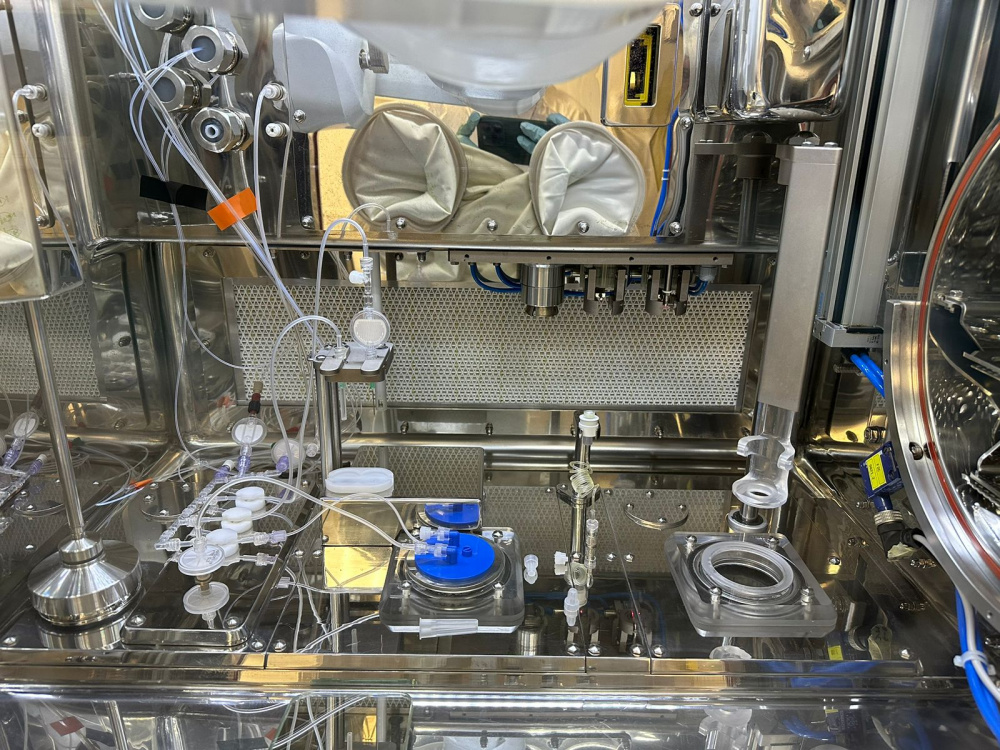Приход в Россию локальных компаний Big Pharma до сих пор оказывается шоком для участников отечественного рынка: слишком сильно различаются механизмы и идеология деятельности, не говоря уже о ее масштабах. Специалистов первого ряда с опытом работы и там, и здесь, а потому способных состыковать два механизма, отчаянно мало. Виталий Пруцкий, около 15 лет проработавший в западных компаниях, а в 2012 году возглавивший R&D центр компании AstraZeneca в Санкт‑Петербурге, – редкий «экземпляр» еще и потому, что его специализация – биоинформатика.
«То, что я насимулировал, – это на самом деле правда»
– Как вы, врач по образованию, занялись компьютерными разработками?
– Я родился и вырос в Ленинграде, учился в Первом медицинском институте. После него попал в Институт гриппа – скорее из-за интереса к науке, чем к практической медицинской деятельности. Времена для лабораторной работы были непростые, просто нечем работать было. Покупали на углу спирт «Рояль» и перегоняли в спирт-реагент.
– Это самое начало 90-х?
– 1992–1993-й. Мне очень повезло в жизни – еще в Институте гриппа я занялся компьютерной биологией. Перед нами стояла практическая задача: создать систему, которая тестировала бы на присутствие гепатита C (тогда это была новая инфекция). В России ничего не было, а коммерческие западные системы стоили как три месячные зарплаты и оставались недоступными. Я занялся созданием компьютерных кодов. Это казалось ужасно интересным, потому что в лаборатории ничего не сделать, нет реагентов, но есть компьютер, у тебя что-то получается, и это творчество.
В Институте гриппа была гепатитная клиника, ее возглавлял Алексей Венирович Яковлев, который теперь является главным врачом Боткинской больницы. У него возникла очень прогрессивная на тот момент мысль – создать в клинике компьютерную сеть, ведь их тогда в России в медицинских учреждениях не было. Мы с коллегой этим активно занимались с нуля: от того, где найти деньги, и до того, как превратить их в твердую валюту (шел 1993 год), где найти компоненты, – собрать компьютер было дешевле и проще, чем ввозить готовый. Это мы и сделали, и сеть запустили.
– Но ведь вскоре вы уехали…
– Хотелось развиваться научно, а в России такой возможности не было. Я написал несколько резюме на те позиции, которые тогда были объявлены, одно на условиях конкурса было как упражнение на английском языке. И был очень удивлен, когда вдруг получил письмо от моего будущего супервайзера [научного руководителя. – Vademecum], в котором говорилось, что мой бэкграунд показался им наиболее подходящим. Через несколько дней я получил предложение о работе. Одновременно мне предложили место в университете, то есть я работал, но мог из зарплаты платить за образование. Естественно, я от этого не отказался. Меня определили в очень хороший колледж – самый старый в Оксфорде, основанный в XIII веке.
Я должен был заниматься только компьютерной деятельностью – моделированием и симуляциями. Но, как это бывает, что-то сделаешь, пытаешься опубликовать, а тебе говорят: «Да это ваши компьютерные симуляции!» Сейчас к этому относятся более серьезно. А тогда вирусологи говорили: «Мы пашем в лабораториях, а вы нажали пару кнопочек на компьютерах – и хотите опубликоваться в наших солидных журналах? Вы это насимулировали в компьютере, – а покажите!» И по договоренности с ближайшим институтом вирусологии мне в лаборатории выделили стол, реактивы, реагенты, дали доступ к оборудованию. Я начал работу для того, чтобы продемонстрировать: то, что я насимулировал, – это на самом деле правда. На это и ушли все три года. Это стало материалом для моей диссертации.
Еще до истечения срока работы в университете мне предложили постоянный контракт в индустрии. Это мечта для любого человека, особенно для эмигранта с непонятным статусом.
– Что это была за компания?
– Маленькая биотехкомпания под Оксфордом, Oxagen. Был бум всяких «-omics», в том числе genomics. Все думали, что мы вот-вот просеквенируем геном, найдем новые гены, проассоциируем их с болезнями, продадим эти гены Big Pharma, она создаст лекарства, а мы будем жить на деньги от продаж, как рантье. Может быть, звучит надменно, но и тогда было понятно, что все будет не так просто, как виделось руководству. У меня были с ним трения. Мне хотелось, чтобы было продолжение, чтобы во всем этом было больше смысла.
Через год подвернулась работа в Medical Research Council – это вид государственной научной службы. Там был очень интересный инфраструктурный проект четырех больших центров по секвенированию нескольких участков генома. А еще через год я поехал в голландскую компанию Organon делать доклад на тему моих предыдущих изысканий – и к концу дня мне предложили там работу.
– Чем вы их заинтересовали?
– И сейчас мало хороших специалистов, которые занимаются биоинформатикой, везде мало. А тогда особенно: этому никого не учили, слово «биоинформатика» только что появилось. Так совпало, что я работал в нужной области. Мне предложили место на новой растущей исследовательской площадке Organon в Шотландии. Мы быстро развернулись и в плане программ Target Discоvery, и в моей конкретной области – биоинформатике, компьютерной биологии. Собрали команду хороших специалистов, которым это было интересно, и которые работали не только за деньги. Наши мишени были одобрены, результаты их тестирования пошли на Lead Discovery, то есть на этап поиска наиболее перспективных молекул, взаимодействующих с мишенью. Это критерий успеха.
– То есть результаты пошли в производство?
– Это еще не производство, но следующий этап разработки препарата. Мы валидировали, одобрили потенциальную мишень, наше руководство согласилось, что в эту мишень стоит инвестировать. Это значит, что теперь – очередь тестов для высокопроизводительного скрининга, когда смотрят, какие библиотеки молекул могут подходить, чтобы их скринировать против этой мишени. Это первое важное инвестиционное решение, которое принимает Pharma.
Позже мне предложили переехать в Нидерланды, причем работать не линейным менеджером, у которого прямые подчиненные, а менеджером фармацевтических проектов. А это совершенно особая вещь: надо хорошо понимать, чем ты занимаешься. Мне дали и с научной, и с практической точки зрения чисто пилотный проект, который спонсировался на самом высоком уровне: попробовать, насколько полезны все эти omics-технологии для предсказания и объяснения безопасности и токсичности лекарств. Предсказания осуществлялись лабораторным и математическим образом. Процесс был интересен, потому что включал в себя все проекты, которые в это время были в Organon с точки зрения так называемой селекционной фазы. Эта фаза – второе или третье по важности инвестиционное решение, которое принимает Pharma, когда переводит молекулы из исследований в девелопмент: нужно понимать, как молекула проявит себя хотя бы в раннем девелопменте. Встал вопрос, что мы можем еще сделать в исследованиях вне GLP, то есть исследованиях относительно быстрых и простых, с меньшими обязательствами.
Проект подходил к концу. А я получил новое предложение и вернулся в Британию – в компанию Almac Group, где провел следующие семь лет, отвечая за биоинформатику, биостатистику и менеджмент проектов.
– С 2012 года вы работаете в AstraZeneca. И продолжаете заниматься тем же?
– И да, и нет, как это было всегда в моей карьере. Изначально план компании был связан именно с информатикой, информатическим обеспечением R&D. От этого никто не отказывался, но все оказалось сложнее, чем я думал: в последние год-полтора AstraZeneca прошла через много сложностей – и коммерческих, с возможными патентными потерями, и связанных с тем, что в принципе надо менять многие вещи. Например, изменилась внутренняя структура. Россия относилась к европейскому рынку, а теперь – к международному (административно это другая ответственность), и это правильно: все-таки наши динамика и жизненный цикл лекарств сильно отличаются от немецких. Здесь мы стали вторым по важности рынком после Китая – в Европе мы не были вторыми. И в R&D произошли очень большие изменения.
Перемены продолжаются. Наша работа в информатике пока находится на уровне отдельных проектов, и на каждый проект нужно получить финансирование. Но моя предыдущая деятельность в сервисной компании научила меня тому, как надо продавать проекты. А здесь то же самое. Моя работа отчасти заключается в том, чтобы понять нужды конкретных людей в AstraZeneca, у которых есть бюджеты, и найти здесь тех, кто мог бы потенциально выполнить эту работу, а потом «продать» возможности наших местных игроков моей собственной компании.
Буквально на днях мы присоединили к нашей петербургской команде первую группу из Москвы. Она создает пилотный проект как раз по математическому моделированию биологических процессов. Есть несколько других проектов, связанных со сбором информации и моделированием на ее основе развития антибиотиковой резистентности. Последний проект по биологическим системам может превратиться в одно из стратегических направлений, потому что на свете мало вендоров, которые это делают, у AstraZeneca есть не так многопотенциальных партнеров, а существующие стоят в два раза дороже, потому что территориально находятся в Бостоне или Кембридже.
– На слуху два ваших проекта, начатых не так давно совместно с научными институтами, – биобанк и диагностика в фармацевтических целях генных мутаций в онкологических образцах. Но какова их реальная перспектива? Какие бизнес-механизмы работают в данном случае?
– Проекты инфраструктурного характера (биобанк – совместно с Центром сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова и Биофондом РВК) и проекты, связанные с трансляционной персонализированной медициной (совместно с Институтом онкологии), привязаны как к науке, так и к тому, что у нас есть определенный пайплайн, продукты на рынке и в разработке: это то, что нам действительно нужно. С моей точки зрения, R&D в фармкомпании – это то, что приводит к возникновению новых лекарств или к изменению, расширению показаний для старых.
Биобанк запущен, но пока остается маленьким. Наша задача – создать национальный биобанк: не как один подвал, где все хранится, а как сеть участников-партнеров. Есть бизнес-механизмы для того, чтобы это сделать. Наш вклад заключается в организационных действиях, запуске этих механизмов. Это немного необычная роль для фармкомпании. По сути, проблема состоит в том, как запустить биотехбизнес в России: не так, как это здесь делает обычно государство (выделяет средства), а так, как этого бы достигли в Америке.
«Идея в том, чтобы создать препарат в сотрудничестве с локальными фармкомпаниями»
– Чем российское R&D подразделение компании доказывает свою состоятельность?
– Есть несколько способов в ближайшей перспективе улучшить наш портфель в России (желательно и за ее пределами, хотя бы на развивающихся рынках).
Первый из них – это так называемый инлайсензинг (сделки по продаже лицензий) для R&D: например, я нахожу какой-то очень ранний актив, молекулу, которую кто-то в России придумал, изучаю и предлагаю своим коллегам, а они решают, что это ценный актив или лицензия, и мы это купим. Хотя по большому счету в настоящее время в России мало активов, которые имеет смысл лицензировать и о разработке которых известно. Даже когда они есть, дело находится на столь ранних этапах, что мало компаний, которые этим заинтересуются.
Мой инлайсензинг – это когда я анализирую препараты, разработанные японскими, корейскими, маленькими европейскими компаниями. Они зарегистрированы в своих странах, но по своему профилю подходят к нашему портфелю коммерчески и с медицинской точки зрения. Нам не нужно создавать абсолютно новую франшизу, мы можем попробовать лицензировать эти молекулы у компаний, которые не продают свои препараты в России по разным причинам. Иногда они просто не помнят о существовании России. Бывают удивительные вещи: даже большие компании подчас забывают о своих очень неплохих разработках, которые можно маркетировать на определенные рынки. У них есть интересные продукты, но при этом и определенная специфика, которая не позволяет легко развернуть продажи этих лекарств.
За несколько лет мы создали определенную инфраструктуру для генетического тестирования, включающую взаимопонимание со средой врачей, реальные лаборатории в медицинских центрах (они не наши, но у нас есть оборудование, запас реагентов, мы натренировали людей и создали некое понимание, как этим нужно пользоваться). Теоретически возможна ситуация, когда компания, даже большая, работающая на территории России, может решить для себя, что обладает лекарством, но у нее нет инфраструктуры для генетического тестирования. И есть смысл войти в партнерские отношения с AstraZeneca, у которой такая инфраструктура есть, или лицензировать компании эту молекулу. Это один способ увеличить наши продажи, а пациентам российских клиник – получить доступ к хорошим работающим препаратам.
Второй способ – fixed dose combination, когда человек вместо того, чтобы есть две таблетки, ест одну: два активных вещества «стыкуются». Наша работа заключается в том, чтобы посмотреть, какие возможности есть у наших собственных молекул для создания комбинаций с нашими же молекулами или другими. Здесь идея заключается в том, чтобы не просто создать препарат, а сделать это в сотрудничестве с локальными фармкомпаниями. Мы работаем с потенциальным партнером (подписанных контрактов пока нет). В ближайшие дни я ожидаю формальных бизнес-предложений, подробно описывающих, как они это будут делать, сколько это займет времени и сколько будет стоить для тех комбинаций, на которые мы в AstraZeneca уже сориентировались и которые уже проходят нашу экономическую оценку.
Проект важен и для компании в России, и для глобальной AstraZeneca, потому что это первый опыт подобного сотрудничества. Кроме того, чтобы создать такое лекарство и потом его успешно продавать, нужно научиться работать с локальными партнерами.
– Есть ли здесь сложности?
– У меня часто возникает ощущение, что разговоры, будто такая-то компания Big Pharma коллаборирует с тем-то, а такая-то с тем-то, – это в большей степени маркетинговый ход, трюк. Потому что не всегда понятно, стоит ли на самом деле задача создать лекарственное средство. И когда ты начинаешь хотеть от потенциальных партнеров чего-то реального, сталкиваешься с тем, что они-то этого не ожидают. Мой первый опыт работы с локальными компаниями зачастую был таков, что они не дают конкретную информацию. Я задаю вопрос, что это означает, что и как они будут делать, как они могут сейчас это продемонстрировать. Более того, нужно, чтобы препарат был зарегистрирован не только в России. Какие регуляторные требования они будут соблюдать, какая система поддержания качества действует в их компании? Они не всегда понимают, почему эти вопросы важны. Но мне кажется, что при определенных усилиях и настойчивости можно научиться работать вместе.
– Меняет ли инновационную ситуацию в России появление на отечественном фармрынке R&D центров глобальных компаний?
– По моему мнению, в России нет инноваций и прорывных технологий в области фармацевтики. Можно до бесконечности обсуждать, исчезли они в последние 20–25 лет или их никогда не было, а если были, то в каких областях. На мой взгляд, наша страна никогда не являлась страной, где преобладал бы инновационный путь развития. В этом плане мы – не Америка, не Италия, не Германия, не Великобритания. Единственный способ быстро привезти инновации – их импортировать. Мы не будем первыми, кто это сделал. Это сделали Япония, Корея – посмотрите на них! Китай в конце концов это сделал. Но чтобы это сделать, нужно выложить из кармана нефтедоллары, привезти технологии и специалистов – носителей экспертизы (а не только менеджеров), обеспечить им стабильность.
Я встречался с некоторыми американскими стартапами. У меня после таких встреч ощущение, что даже пробовать не стоит. Не надо, не получится, и не только потому, что здесь так не хватает реальных инноваций, но и потому, что там с ними так хорошо. По моим наблюдениям, этот разрыв не только не уменьшается, он все время увеличивается, потому что там-то они действительно занимаются инновациями и с точки зрения науки, и с точки зрения технологий, и с точки зрения применения их результатов.
«Я тащу сюда ресурсы и коллег, с которыми работаю в глобальной Astra Zeneca»
– Что в таком случае вы делаете в Петербурге?
– Наша задача заключается не в том, чтобы поднять инновационную экономику России. Мы – коммерческая компания, которая преследует свои интересы. Они, к счастью, не ортогональны с интересами Российского государства. Даже наоборот, полностью совпадают по направлению. Тут есть определенные человеческие ресурсы, хотя людей и организаций, способных делать то, что нам необходимо на нужном нам уровне, в России немного. Но в этой малочисленности есть преимущество: их хорошо видно на общем фоне. Есть организации, в которых не только талантливые люди, но и более или менее здоровые бизнес-процессы.
Во-вторых, без всякого цинизма, здесь это дешевле, хотя уже не намного. Мы действительно много делаем, чтобы и рабочие места здесь возникали и достойно оплачивались. Мы создаем те самые редкие высококвалифицированные рабочие места. Иначе отсюда уедут и эти люди, потому что некому будет им платить и некому будет поставить интересные задачи.
У фармкомпаний – не только у AstraZeneca – есть огромное достоинство: за десятилетия мы наработали опыт того, как идею превратить в лекарство. В России этого пока не умеют, просто потому, что никогда этим не занимались на том уровне, которого требуют современное здравоохранение и сами пациенты. Big Pharma, в отличие от маленького стартапа, умеет это сделать, потому что она знает весь процесс. По крайней мере, работая с нами, локальный производитель или научная группа получают гарантию, что работа действительно будет сделана: у меня нет интереса в отчетности, на мой отчет никто не посмотрит. Лично моя карьера зависит от того, будет ли продукт, а не от того, будет ли отчет по гранту. Я тащу сюда ресурсы моих коллег, с которыми работаю в глобальной AstraZeneca, чтобы они делились своим опытом: как сделать так, чтобы биобанк работал в соответствии с международными этическими требованиями, чтобы то, что он производит, подходило любой фармкомпании мира.
Есть еще одна сторона взаимодействия с внутренними игроками. У нас, как у многих других компаний Big Pharma, много молекул, разработка которых по очень разным причинам была остановлена. Она стоит дорого, а бюджеты ограничены, мы не можем тянуть 200 разных проектов. У локальных игроков есть реальная возможность лицензировать у нас эти разработки, причем зачастую лицензировать почти бесплатно, чтобы доработать по полной программе для регистрации в России и, может быть, в СНГ. При этом мы хотели бы оставить за собой права на коммерциализацию за пределами России. Получается выигрыш для всех.
Это непростая тема, потому что не так легко убедить российских игроков в том, что если мы предлагаем какие-то разработки, мы не подсовываем им нечто по принципу «нам не надо, а вы берите». Стопроцентных гарантий не бывает, но эти молекулы настолько же безопасны, насколько была бы безопасна любая молекула, которую мы запустили бы в исследования в любой другой стране. И у нас есть серьезные основания полагать, что она может быть эффективна при лечении определенных болезней.
– И несколько личных вопросов. Вы живете на две страны?
– Да. У меня еще и семья в разных местах: один сын в Лондоне, другой – в Северной Ирландии, но сейчас будет переезжать в Оксфорд. Старший – физик, только что закончил бакалавриат, на следующий год идет на мастерский курс в Кембридже, а на лето едет в Чикаго на неоплачиваемую практику в одной из трех лучших лабораторий мира в его сфере.
А младшему девять лет.
– Английский у вас с оксфордским акцентом?
– Нет, с русским.
– Вы занимаетесь именно тем, что вам интересно?
– Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, но и в академической среде, и в индустрии часто приходится делать то, что от тебя требуют. Но я всегда говорил подчиненным: «Если вы хотите сохранить высокую моральную позицию (а я предпочитаю работать с такими людьми), то, к вашему сожалению, вам придется сделать то, что вам сказали, плюс то, что вы сами считаете нужным». Так я и сам живу.