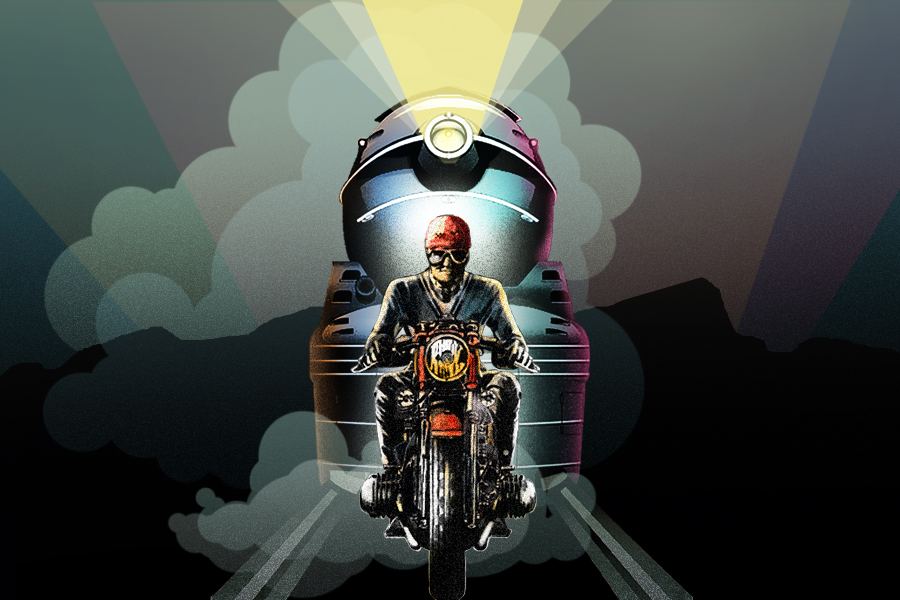Импортозамещение уверенно шагает по стране, а отчетливее всего его отпечатки видны на обширном российском фармацевтическом рынке, свидетельствует статистика Минпромторга. Еще чуть-чуть, и проблема лекарственной безопасности, обозначенная Владимиром Путиным еще в 2008 году, будет решена, намекает глава ведомства Денис Мантуров. Но все это только в релизах и в не терпящих критики отчетах. Главному протекционисту пока не удалось взять импортозамещение под контроль, научить участников рынка строго следовать президентским указаниям. Конечно, импортозамещение в фарминдустрии существует и даже развивается. Но признать, что, по сути, никакой системы и политики управления этим процессом у государства нет, чиновники не готовы.
Вышла из «майских»
Последние полгода Минпромторг с завидной регулярностью выступает с заявлениями о новых победах отечественного фармпрома на ниве импортозамещения. Семантического анализа всех министерских релизов и выступлений мы делать не будем. Но внимательно разберем самое свежее интервью главы ведомства Дениса Мантурова телеканалу «Россия 24». Ключевые показатели импортозамещения, которые в конце августа называл Мантуров в эфире госканала, такие: доля отечественных производителей на рынке в целом в 2015 году достигла 28%; в сегменте жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулирует государство, доля российской продукции достигла 69,5%. О чем должны говорить эти цифры? Главным образом о том, что в министерстве не просто помнят о так называемых майских указах президента, подписанных в 2012 году, но и уверены, что добраться до заявленных Владимиром Путиным ориентиров можно. До «дня икс», 1 января 2020 года, когда лекарственное импортозамещение должно достичь своего расцвета, остается чуть больше четырех лет. Вероятно, министр считает, что этого времени хватит, чтобы приблизиться или покорить плановый рубеж, помочь российским фармкомпаниям «занять 50% внутреннего рынка». Нужно все- го-то добрать какие-то 22%. А непосредственно с перечнем ЖНВЛП, который априори должен быть президенту интересен в большей степени, поскольку ориентирован на госзакупки, вообще все в порядке – план перевыполнендосрочно. В «майских» указах требовалось довести долю до 67%.
Денис Мантуров и его коллеги, ответственные за тему лекарственного импортозамещения, уверенно оперируют статистикой. Восходящий тренд прослеживается от высказывания к высказыванию. И хотя чиновники не говорят, что перевыполнение президентского плана – это их заслуга, впечатление, что Минпромторг не отделяет себя от рынка, абсолютное. Говоря об индустрии, Мантуров постоянно сбивается на «мы».
С одной стороны, ничего предосудительного тут нет. У Минпромторга роль многогранная: он выполняет важное правительственное задание, симпатизирует дерзким передовикам отечественного фармпрома, а потому не способен оставаться беспристрастным регулятором.
С другой стороны, можно подвергнуть сомнению тот факт, что у чиновников министерства на сегодняшний день есть право произносить это самое «мы», хотя бы потому, что статистика, которой с щепетильным указанием десятых долей процентов оперирует министр Мантуров, мало соотносится с представлениями практиков отрасли о положении дел в индустрии министром, никто из представителей фарминдустрии не усомнился. В конце концов, никому пока нет вреда от этой статистики, даже если она лукавая. Наоборот, практически вся индустрия вовлечена в тренд импортозамещения, а значит, не отклоняется от главной политико-экономической линии государства.
Вряд ли кто-то впоследствии будет говорить, что Минпромторг с потолка брал победный показатель – 69,5%. Тем не менее VM взял на себя труд найти обоснования министерской статистики. И в процессе восстановления логики расчета, кажется, выяснил, как чиновники воспринимают отраслевую реальность и что на самом деле вкладывают в понятия «отечественный препарат» и «отечественный производитель».
Корневая система
Забегая вперед, предупредим, что наше исследование показало: под выкладки министра Мантурова подвести обоснование можно, правда, к реальности, в которой развивается импортозамещение в России, эти цифры отношения не имеют. Используя открытые источники – Госреестр клинических исследований, данные ресурса zakupki.gov.ru, – аналитики VM детально проработали каждую из 608 позиций перечня ЖНВЛП. Нас интересовали следующие параметры – конкурентная среда на рынке каждого МНН, то есть наличие зарубежных или отечественных аналогов, активность разработчиков дженериков и, главное, реальные успехи отечественных разработок в госзакупках.
Естественно, возник вечный вопрос: а какие лекарства считать отечественными? VM решил относить к таковым лишь те препараты, у которых в России локализована стадия изготовления готовой лекарственной формы (ГЛФ). Мы подумали, что все равно же Минпромторг обещает, что с 2016 года локализация упаковочной стадии не будет считаться достаточным показателем для признания препарата отечественным; следовательно, скорое ужесточение этого правила в статистике министерства уже учтено. Но вся наша логика «поплыла» после сверки с базами данных. Для нас было очевидно, что Минпромторг измеряет рынок не в деньгах и упаковках, а в МНН. Мы пошли по тому же пути, но сразу выяснили, что в дальнейших рассуждениях с регулятором разойдемся.
Наша поверка показала, что лишь по 383 МНН из перечня ЖНВЛП в качестве владельца регистрационного удостоверения (РУ) заявлены российские фармкомпании, не являющиеся торговыми представительствами зарубежных игроков. Иначе говоря, потенциальная доля отечественной продукции в списке ЖНВЛП составляет уже не 69,5%, а только 62,9%. А если копать глубже, показатель снизится еще заметнее. Для примера возьмем регистрационное удостоверение на противотуберкулезный препарат Сиртуро, которому прочат титул нового блокбастера госзакупок. Владельцем РУ заявлен «Фармстандарт», однако ничего отечественного в этом препарате, кроме вторичной и третичной упаковки, нет: ГЛФ произвели в Индии на предприятии «Кемвелл Биофарма», авторство субстанции принадлежит американской Janssen. Таких приме- ров наберется с десяток и более. Причем владельцами РУ нередко заявлены даже не производители, а оптовики, которые занимаются продвижением зарубежных препаратов «под ключ». В Минпромторге на эти, как, вероятно, и на другие условности внимания не обращают. Чтобы получить показатель 69,5%, нам пришлось принять за «россиян» препараты из перечня ЖНВЛП, чью фасовку осуществляют в нашей стране контрактные производители, не имеющие при этом статуса владельца регистрационного удостоверения. А заодно добавили в список «отечественных» препараты, записанные на российских «дочек» иностранных производителей, которые пока и не думали переносить производство конкретного МНН в Россию. Вот и живой пример навскидку: препарат Земплар (парикаль- цитол) от AbbVie. международной компании – ООО «Эббот Лабораторис»; упаковщиком заявлено ЗАО «Ортат», входящее в группу «Р-Фарм»; производство ГЛФ в России не осуществляется. Вроде опять ничего отечественного, кроме картона, но если мы не внесем Земплар в хронику побед импортозамещения, то никак не сможем выйти на заветные 69,5%.
Заглянули по-свойски
Если относиться к импортозамещению только как к идее выстраивания биологического щита Родины, получение отечественной компанией РУ на аналог зарубежного препарата и есть конечный ориентир системы лекарственной безопасности. Однако зарегистрировать препарат еще не значит продать. Минпромторг тут мало чем способен помочь. Да, регулятор готов продвигать импортозамещение дальше на рынок и уже год декларирует принятие со дня на день протекционистского постановления правительства, более известного как правило &дaquo;Третий лишний». Но принципиально эта новелла рынок не перекроит. Как известно, документ предлагает не допускать к торгам иностранные препараты, если на участие в розыгрыше претендуют минимум два поставщика отечественных аналогов. Посмотрим на примере препаратов из перечня ЖНВЛП, как «Третий лишний» в теории может способствовать импортозамещению на рынке госзакупок. Даже если сделать допущение, что госзаказ регулируется не картельным сговором, а честной игрой, быстрых качественных перемен «Третий лишний» не даст. Только по 129 МНН из перечня ЖНВЛП зарегистрировано не менее двух аналогов, записанных на отечественные фармкомпании. Других мер протекции регулятор пока не предусмотрел. А значит, и способствовать дальнейшему насаждению импортозамещения в госзакупках не может. Все та же неумолимая статистика говорит, что абсолютное насыщение рынка отечественной продукцией в пятилетней перспективе рынку не грозит. По 247 МНН из перечня ЖНВЛП на сегодняшний день доля продаж импортных препаратов в государственных тендерах достигает 100% – российских аналогов либо нет в природе, либо производители не предлагают их рынку. VM подсчитал, что в сегментах еще 199 МНН доля импортной продукции по итогам закупочного сезона-2014 превышала 50%.
Впрочем, есть и обратные примеры. По 162 МНН объем продаж отечественной продукции как раз выше 50%. Но это во многом те случаи, когда компании сделали все самостоятельно, не пользуясь протекцией Минпромторга. Многие отечественные фармкомпании замахнулись сразу на самые маржинальные категории препаратов и по некоторым МНН уже смогли полностью вытеснить «иностранцев». История этих завоеваний лучше всего просматривается по тендерам госпрограммы «Семь нозологий».
Из 23 МНН, входящих в ее закупочный перечень, отечественных аналогов не зарегистрировано только по 10. Всего же в теории на захват доли в «Семи нозологиях» претендуют 30 отечественных дженериков от 15 компаний. Наибольшее количество – 11 – аналогов зарегистрировано по МНН иматиниб (оригинальный препарат Гливек от Novartis). На практике выйти на главный рынок госзакупок могут далеко не все желающие. Свое место в госпрограмме смогли завоевать всего шесть отечественных производителей. Два из них – «Генериум» и «Биокад» – промежуточные лидеры «Семи нозологий» сезона-2015. Благодаря активности этих игроков доля отечественной продукции выросла на рынке госпрограммы с 11,7% в 2013 году до 54% по итогам только первого полугодия 2015-го. И заметное увеличение доли российских продуктов в «Семи нозологиях« до конца года вполне вероятно, если отечественный производитель «Ф-Синтез» успеет ворваться в тендер по МНН глатирамера ацетат, в котором до сих пор был представлен один препарат – оригинальный Копаксон от Teva. В развивающемся пока сюжете вокруг первого отечественного аналога Копаксона есть одна примечательная особенность. «Ф-Синтез» – чемпион по числу выигранных конкурсов на НИОКР препаратов по заданию Минпромторга. В совокупности компания подписалась на разработку 40 препаратов, взяв на это у министерства в общей сложности 1,9 млрд рублей. Ни один из препаратов до стадии, близкой к получению регистрационного удостоверения, пока не добрался. Чего совсем скоро нельзя будет сказать об аналоге Копаксона, с воспроизведением которого Минпромторг компании никак деньгами не помогал. Вообще, история с раздачей субсидий разработчикам за те неполные пять лет, что действует ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», осязаемых результатов не дала. С 2011 года по 2015-й Минпромторг раздал задания на разработку 132 МНН, выделив на это более 4,5 млрд рублей. До рыночной стадии пока добрались только пять препаратов, три из них – в этом году. С другой стороны, до 2020 года время еще есть, а там и дальнейшая перспектива для импортозамещения проявится